Давайте знакомиться. Не знаю как вас, а меня зовут Игорем Паньковым. Откуда взялась моя фамилия и где мои корни – неизвестно.  Корни обрублены и гниют в чужой земле. По чьей вине, как и почему – никто уже не ответит – все случилось совсем в другом измерении.
Корни обрублены и гниют в чужой земле. По чьей вине, как и почему – никто уже не ответит – все случилось совсем в другом измерении.
Я и сам родился ужасно давно – в середине прошлого века. Это было время сплошных триумфов и застолий, застолий и триумфов. Побед и достижений было так много, что пьянствовать приходилось прямо в рабочее время и на рабочем месте. Мы уже почти догнали Америку, но тут трон под Никитой зашатался. А кругом рвались как петарды симпатичные водородные бомбы, радостно скулили забытые на орбите советские дворняжки. «Пи-пи, пи-пи, пи-пи» — пищал из космоса блестящий шарик от шарикоподшипника, и я, лежа в колыбельке, его по-человечески очень хорошо понимал. Суровая мужская любовь, строгие моральные кодексы и трогательные принципы социалистического общежития окружали меня со всех сторон и буквально соревновались за право меня облагодетельствовать, потому что почтенные мои родители трудились исключительно в «закрытых учреждениях»: сперва на одной из глухих сибирских зон, затем на строительстве центра дальней космической связи, а когда я перешел во второй класс – в составе ограниченного контингента советских войск в Германии. «Что такое детство?» – спросите вы меня. «Пушкин, Пушкин, и еще раз Пушкин, слегка рассиропленный многочисленными Барто, Чуковскими и Михалковыми. И спортивные игры на свежем воздухе. Вот что такое детство». Итак, в третьем классе я дерзнул, и сам написал стихотворение. И года два подряд с упорством фанатика занимался этим неблагодарным делом, терроризируя редакторов многочисленных детских журналов. За это время я успел получить от них столько маловразумительных отписок, что понял со всей очевидностью – с художественным вкусом у наших лит функционеров дело обстоит из рук вон плохо. (Между нами, гениями, говоря, за четыре десятилетия положение вещей в лучшую сторону ничуть не изменилось. Меня до сих пор не печатают в московских журналах. Исключением является «Арион», но и тут – буквально из-за каждой строчечки, словечечка и запятушки у нас с главным редактором происходят столь кровопролитные эпистолярные баталии, что четверостишья, чудом прорвавшиеся в печать, весьма напоминают войска победоносного Пирра.) С реальной жизнью нос к носу я впервые столкнулся, только заканчивая школу. Признаюсь, встреча произвела на меня не самое лучшее впечатление. Но мало-помалу я пообтесался, втянулся, и даже начал получать удовольствие, научившись курить, выпивать и ухаживать за девушками. Но тут… Тут школьные годы окончательно подошли к концу и ребром встал вопрос: как избежать армейской службы. На основании своеобразного экзит-пола, моя добрая матушка вычислила два института с наиболее низким уровнем проходных баллов, но зато с военной кафедрой. Оба оказались медицинскими. И я, как некогда Александр Сергеевич, по велению сердца отправился в Оренбург. Городишко сей мне чрезвычайно понравился (после казахского поселка Сары-Озек с его ракетным полигоном, марсианским климатом и тремя сотрясениями мозга меня приводило в буйный восторг абсолютно все), от института я и вовсе был без ума. Судьбоносная эпоха второй алии еще только-только начиналась, и наше учебное заведение, помещавшееся в здании бывшего кадетского корпуса, зиждилось на трех китах и еврейской Торе. Доценты пили водку и плясали семь-сорок. Профессора плясали семь-сорок и пили коньяк. Студенты горланили блатные одесские песни. Многого я тогда не понимал, почти ничего не знал, но, скажу без ложной скромности – правильно сориентировался, и поэтому решил посвятить свою жизнь науке. В этом был резон: во-первых, занятия медициной мне претили, а во-вторых, я не собирался ехать по распределению в дикую глушь. Вследствие этого я числился лаборантом на кафедре патологической физиологии, лихо делал трепанации черепа белым крысам, пил наравне с другими сотрудниками лабораторный спирт с рижским бальзамом, и даже опубликовал научную работу в киевской «Науковой Думке». «Некоторые иммунные и гормональные механизмы канцерогенеза нитрозодиметиламином» – вдумайтесь, как гордо это звучит! Чем не верлибр? Моя фамилия под статьей была шестой от начала. Не так-то плохо! Но ректора внезапно сменили, и новый прикрыл место в аспирантуре, и Зодиак в десцеденте развернулся от Меркурия к Плутону, и грязно-голубой вагон унес меня в уральский город Березники. В городе с богатыми традициями был титано-магниевый комбинат, и был химический комбинат, и половина населения щеголяла в кирзовых сапогах и черных стеганых зековских телогрейках. Бесконечные шесть лет, проведенные в Березниках, я пытался постигнуть, но так и не постиг – почему это проклятущее слово пишется через И, а не через Я?! Ответ я бросился искать в анналах мировой литературы. Так я начал читать. Параллельно, не рискуя истязать живых людей, вскрывал трупы. Чтобы выкроить немного свободного времени для чтения – устроился ночным санитаром морга. Желая завязать отношения с молоденькими девушками – преподавал в медицинском училище. А с целью заработать средства на эти столь необходимые отношения – вкалывал еще и дворником. В общем, чтобы не заснуть от переутомления прямо вскрытии, приходилось пить спирт. Спирт был бесплатным – его выдавали для обработки рук. Я научился пить его неразведенным. Все остальное, кстати сказать, тоже стоило гроши. Особенно – жизнь. Перспектива дальнейшего существования терялась в чудовищных клубах ядовитого желтого дыма из труб химкомбината, и я бежал. С женой, крохотной больной дочуркой и остатками нераспроданной мебели из предательски брошенной квартиры. И неожиданно для себя оказался в степном Георгиевске. Пол георгиевского морга проваливался под ногами от любого неосторожного движения. Под половицами прятались ужи. Ампутированные больницей органы и конечности, складируемые вместе с трупиками мертворожденных в кучу у черного хода, напоминали картину Верещагина «Апофеоз войны», а от жары и нашествия несметных мушиных полчищ приходилось периодически отсиживаться в просторном холодильнике трупохранилища. И вновь я позорно бежал, теряя последние остатки мебели из новенькой предательски брошенной квартиры. В настоящее время я обитаю в Кисловодске. Почему именно в Кисловодске? Не знаю. Предполагаю, тем не менее, что застрял здесь всерьез и надолго. Денег уехать еще куда-нибудь, у меня нет – а здесь совершенно бесплатно позволяют дышать первосортным кавказским кислородом, в меру увлажненным и ароматизированным. Да и люди тут довольно миролюбивые. И хотя большинству из них не хватает широты души и размаха, а природа разочаровывает излишней декоративностью, я уверен – когда Пушкин писал «у Лукоморья дуб зеленый», он имел в виду наш Курортный парк. За двести лет парк значительно разросся, поэтому впечатление, произведенное им на меня, оказалось столь велико, что привело к кризису среднего возраста и трагическому разрыву с прошлым. Я бросил врачебную профессию, родил сына, посадил дерево и принялся писать стихи и песни. Судьба дала мне вторую попытку и, следовательно, все остальное неважно – даже если за неимением средств к существованию приходится перебиваться случайными заработками. Обосновался я на лоне дикой и целомудренной природы неподалеку от Лермонтовской скалы, в крохотном домике, где нет никакой возможности заниматься творчеством. Стоит переступить порог – и каждая вещь окружает тебя своей назойливой собачьей любовью, – просто пищит от восторга и преданно заглядывает тебе в рот в надежде броситься со всех ног, чтобы выполнить любое желание. Волей-неволей приходится от всего этого уезжать – обычно на какой-нибудь фестиваль авторской песни (если, конечно, получается съездить бесплатно). Но уж если удалось зафестивалить – в неформальной обстановке этих раннехристианских агапэ можно без зазрения совести стибрить парочку трескучих рифм, умыкнуть звонкую музыкальную фразу, как блох нахвататься разнообразных эмоций… А дома я уже много лет с мрачным и трезвым видом пишу роман. Вернее – давно написал, но никак не поставлю точку в конце последнего предложения. Боюсь. Ведь как только я ее поставлю – окажется, что я уже как бы ничего значительного не совершаю. Следовательно – человек я пустой и бездарный. Или, хуже того – безразличный и ленивый. А с этим я не могу согласиться. Ни за что. Никогда. Ни при каких обстоятельствах.

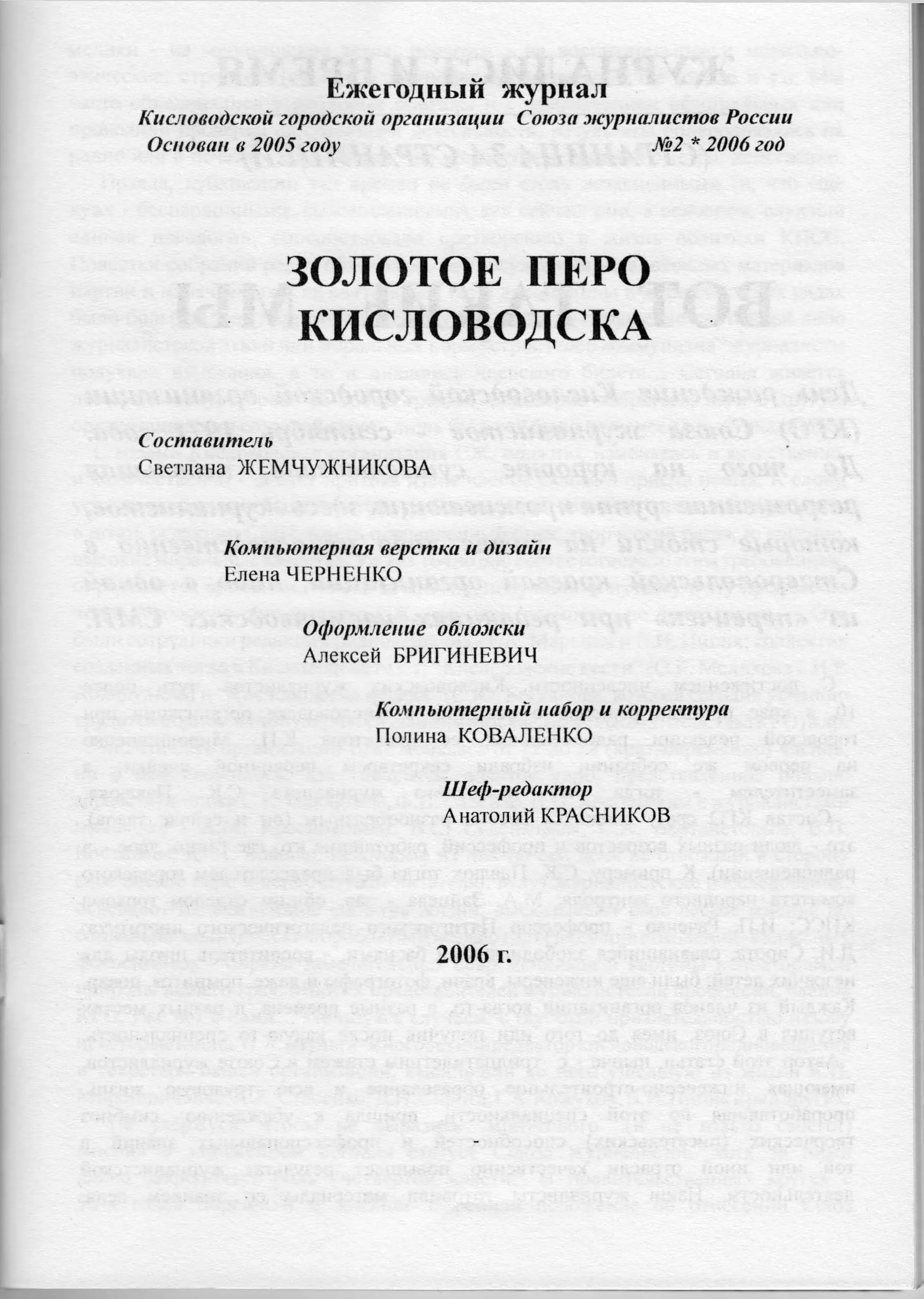



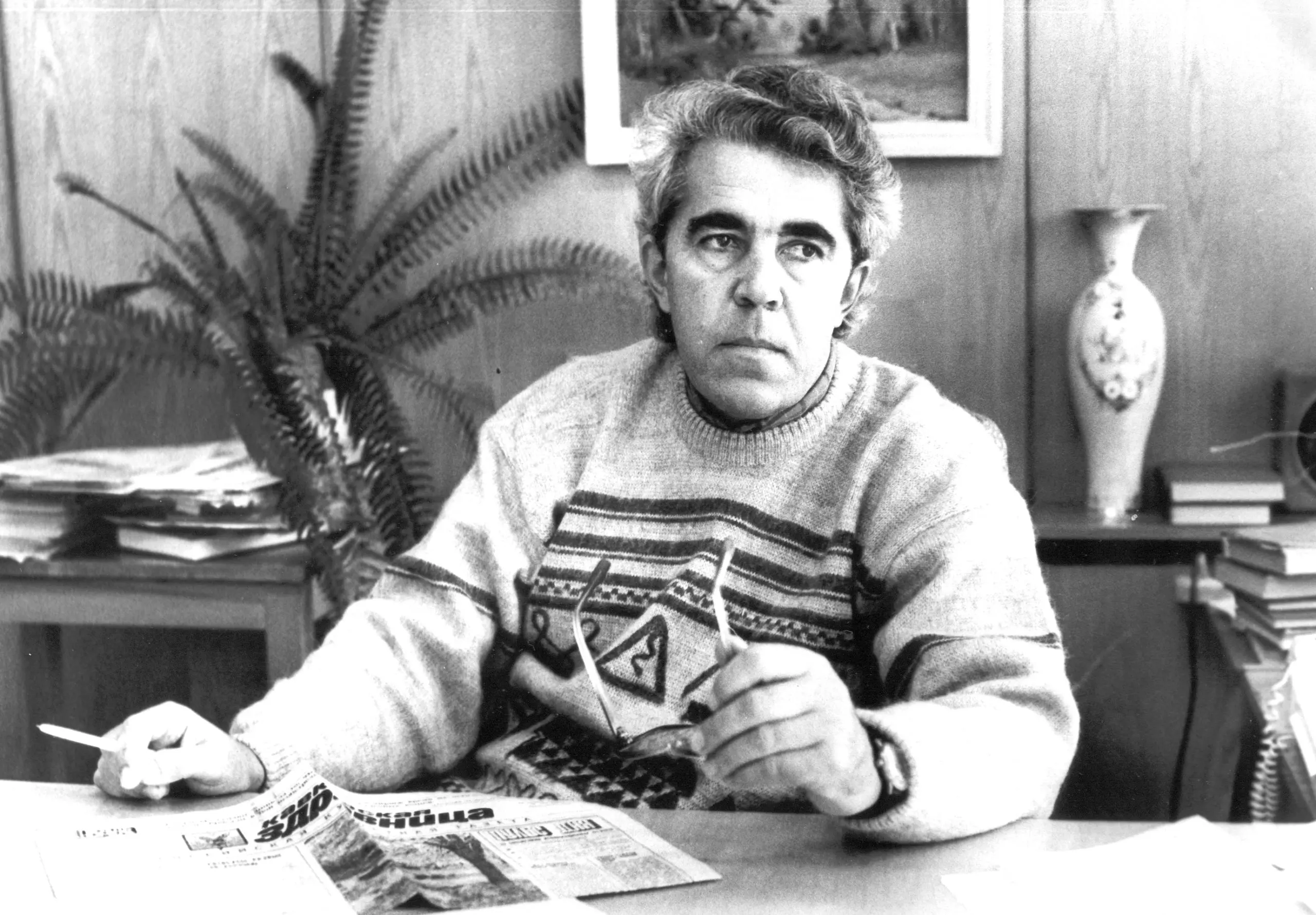

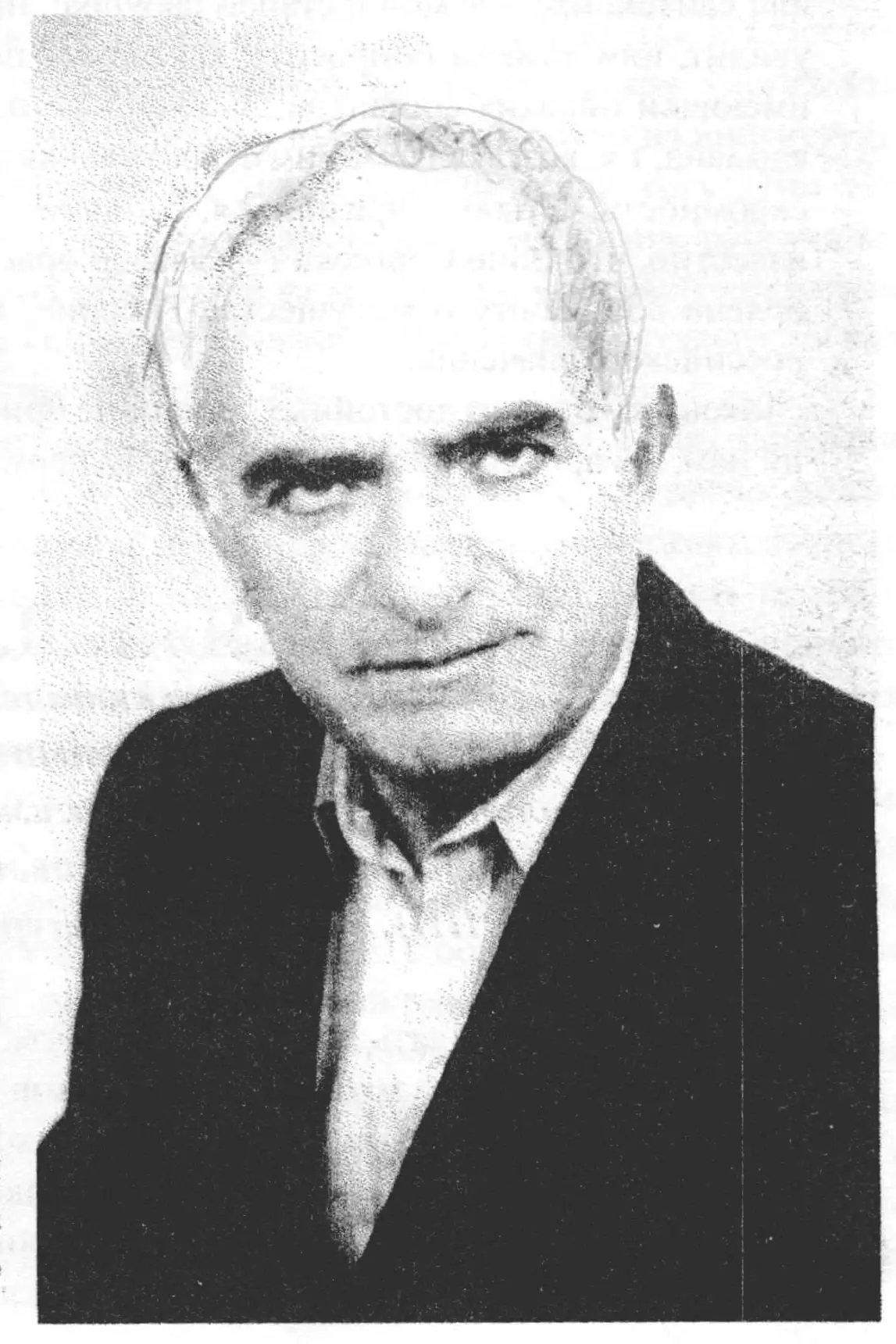

ЖЕЛЕЗНЫЙ КОЛПАК
За мой убогий дастархан,
где пепла серенького горки
и таракан как богдыхан
взошёл на трон из хлебной корки,
за то, что жизнь — напрасный дар,
что руки милой пахнут хлоркой,
за то, что в морге санитар
меня зашьёт кривой иголкой,
за всё, что вынести я смог
и что судьба мне обещает,
любовью истинною Бог
меня от скверны очищает.
Не рай готовит в шалаше,
но в наготе её скабрезной,
велит юродливой душе
везде носить колпак железный.