Редактор «Нашего Кисловодска» запустил одноименный проект, где общается с кисловодчанами разных поколений и просит рассказать, каким был город во времена их юности.
Наш Кисловодск. Олег Гакинульян. 70е — 80е.
Я в Кисловодске всегда чувствовал себя счастливым. Какой-то такой воздух беззаботности. И меня поражало вот что: в Кисловодске всегда все ходили очень медленно, а когда я поехал в первый раз в Москву, я вдруг обратил внимание, как там ходят люди – раз в двадцать быстрее! Интенсивность невозможная! К нам приезжал родственник из Москвы, он утром вставал, из района рынка ходил на Олимпийский и часам к 8 утра уже возвращался обратно. Город у нас маленький, и психология, конечно, чуть-чуть другая, нежели у жителей больших городов.
Я когда в армии служил, спрашивали откуда я, и когда слышали Кисловодск, говорили: «У-у, столица!».
Впечатления от города того времени – битком забитый Курортный бульвар. Он тогда 50 лет Октября назывался, кажется. И у меня воспоминания из юности – очень большое количество женщин узбекских в разноцветных шелковых платьях. И в парке их очень много было. А в каждом дворе было очень много отдыхающих из Средней Азии, из Грузии, из Армении. Здесь прохладней по сравнению с южными регионами. Им здесь было комфортно, и почти в каждом доме сдавали квартиру.
У каждого города есть лицо, и это лицо всегда уникальное. Даже между Кисловодском и Пятигорском расстояние очень маленькое, но это совершенно разные города. Между ними разница — небо и земля, там по-другому даже люди разговаривают. А между Кисловодском и Ставрополем – разница гигантская. И я поражаюсь тем, что кисловодчане уезжают в другие города, большие, Москву, Санкт-Петербург и добиваются там больших успехов. Но потенциал города не только в том, что отсюда уезжают, но и в том, что сюда приезжают талантливые, знаковые люди.
Когда я учился в 4 классе в школе №4, теперь это лицей, я ходил в волейбольную секцию, занятия там вел Геннадий Александрович Плотников. Мне очень нравилась его сумка, на ней было написано «Мюнхен 1972». Оказалось, что он – судья международной категории, а в Мюнхене на Олимпийских играх он судил соревнования по волейболу.
В нашем городе он был тренером в спортивной школе №1. А еще у нас в городе была ДЮСШ №2, в ней работал его ученик, Омар Гаджиевич Бутаев, изумительный человек, заслуженный тренер Российской Федерации, к которому на занятия я ходил. Волейболист из меня, честно сказать, был поганый, я не особенно хорошо играл.
Геннадий Александрович был человек добрый и нас сильно не гонял. Я тогда ходил еще в младшую группу, он вскоре ушел на пенсию и потом очень быстро умер. И вот отличный пример нашего города: Омар Гаджиевич, его ученик, всех ребят из его секций забрал к себе. Надо сказать, что нагрузки у Омара Гаджиевича были в разы больше, и ребята были очень хорошо подготовлены. Я когда посмотрел – обалдел! Но для меня этот поступок Омара Гаджиевича – взять всех ребят к себе в секцию – это поступок настоящего мужчины. Я это очень высоко ценю.
И вот Омар Гаджиевич нам рассказывал о том, каким строгим был Геннадий Александрович. Тот самый для нас добрый дедушка оказывается раньше всех гонял, со всех требовал, выгонял беспощадно с секции, а все ребята мечтали попасть в его команду, после тренировок даже оставались заниматься.
Когда Омар Гаджиевич стал директором спортивной школы, он организовал Мемориальный турнир Плотникова для детей.
И я уверен, что победы наших волейболистов на той же Олимпиаде 2012 года были заложены не тогда, когда они сами пришли в секцию, а они были заложены, когда секцию возглавлял Геннадий Александрович.
Мой дед в 30-е годы занимался волейболом, в городе были земляные площадки, где играли в эту игру, и я так предполагаю, что Геннадий Александрович из плеяды тех людей, которые на этих площадках еще до войны занимались волейболом в Кисловодске. Это вполне возможно.
Геннадий Александрович похоронен на кладбище на улице Революции. У него очень скромный памятник, он и сам был очень скромным человеком.
Вообще, я думаю, секция такого уровня очень важна в плане того, чтоб вправляла пацанам мозги. И Омар Гаджиевич многим вправил, много чему ребят научил. Я его очень уважаю, да и все, кто к нему ходили. Большое счастье, что мне довелось заниматься под его руководством.
А в первой школе когда-то работал Корзун – знаменитый альпинист. Медаль имени Корзуна для альпинистов – это серьезная награда. А в школе он был учителем географии. Известность его в том, что он, если я не ошибаюсь, первым совершил в зимнее время восхождение на Западную вершину Эльбруса. И даже, если не ошибаюсь, одиночное.
Он ездил в Китай, то ли преподавателем геофизики, то ли организовывал какие-то курсы, не помню, в общем очень известный человек. Он работал в первой школе в 1930-х годах, организовал там туристический клуб, и дети с ним ходили в походы, ходили через перевалы, на море через горы, ходили в Абхазию. И в эту секцию, кружок ходил мой родной дед и его двоюродный брат. И ходили они туда вместе с Михаилом Васильевичем Вороновым. Воронов – легенда нашего города, это легендарный учитель, он преподавал географию, рисование, черчение и музыку. Такая была у него широкая специализация. Он очень любил петь, он был руководителем хора, его хотели представить к званию «Заслуженный учитель СССР», но на войне он побывал в плену, и поэтому это звание ему «завернули», не дали.
И он как раз занимался у Корзуна. Когда он сам стал учителем, он продолжил его дело – стал организовывать походы. Походы его были фантастические! Это настоящий, интеллигентский учительский патриотизм. Они ходили на Марухский перевал и хоронили вмерзших в лед солдат. Они находили информацию о них и через военкомат сообщали родственникам, где они похоронены. Это фантастическое дело! А потом наш скульптор Курегян сделал там мемориальную доску.
К Михаилу Васильевичу ходил заниматься парень. Фамилия его Усачев. Который затем стал в первой школе учителем географии. И тоже возглавил туристическую группу. В эту группу ходили самые разные люди, например, Андрей Величко, Алла Михайловна Своеволина – потом они руководили этой группой. А сейчас все это, к сожалению, пропало. Этот туристический кластер, получается, работал в первой школе десятилетиями. А все потому, что какой-то энтузиаст, Корзун в данном случае, дал такой толчок, импульс.
Там был и музей. Такой музей, о котором писала газета «Правда»! Вот что такое настоящие учителя, подвижники!
Или Василий Николаевич Битаров. Это мой учитель, человек, перед которым я снимаю шляпу. Это колоссальный нравственный авторитет! Вот как раз история, которую я никогда не забуду.
В 7 классе мы прогуливали труды. Кабинет трудов был там, где сейчас управление образования, на первом этаже. А на горе был как раз тот самый стадион, который, между прочим, руками школьников, энтузиазмом Василия Николаевича был сделан. С точки зрения школьного стадиона в свое время он был образцовым.
И вот перед глазами у меня стоит сцена, она меня потрясла тогда. Старшеклассники вышли на физкультуру, а мы играли в футбол. А мы все-таки не совсем труды прогуливали, а, так скажем, специально опаздывали. И мы, значит, играли в футбол, и один из ребят-старшеклассников, который бегал короткие дистанции за школу, 200, 400 метров, в общем быстрый такой парень, отнял у нас мяч. Говорит, мол, мы сейчас побегам на физкультуре и будем играть в футбол. Василий Николаевич всегда на физкультуре давал возможность девчонкам поиграть в волейбол, а мальчишкам в футбол. Так вот, забрал у нас мяч, говорит, идите отсюда и все в таком духе. Мы вокруг него бегаем: «А ну отдай! А ну отдай!». Он же большой, а мы маленькие. И она нам: «Да пошли вы все, сейчас по шее вам дам!». И подходит Василий Николаевич и говорит, чтоб он отдал нам мяч. А старшеклассник говорит, что пускай малышня идет на свой урок, а физкультура у них. Василий Николаевич повторил, а старшеклассник продолжал отпираться. И парень побежал, а Василий Николаевич его догнал и мяч отобрал. А ему тогда было 54 года! Он умел очень многие вещи!
Весь коллектив учителей у нас был прекрасный. Скажу честно, мы разгильдяйничали. Я, может, хорошо учился, но класс, бывало, такие вещи вытворял, что ой-ой-ой! Но авторитет у учителей был безоговорочный! Например, наш классный руководитель, учитель химии Галина Ивановна Бондаренко. Сейчас она уже в возрасте, но мы все время ей звоним.
В школе самое козырное время было – это когда ты на дежурстве и нужно было давать звонки. И вот ты сидишь на стульчике и у тебя кнопочка, при нажатии на которую звонил звонок. И вот у тебя часы, такая крутизна, и нужно давать звонки. И меня посадили на дежурство, а в четвертой школе застекленный большой коридор. И слева от этого стульчика вход был, а справа на улице металлолом лежал и елки стояли. И стоял грузовик, который вечно ремонтировали – в школе было свое автодело. И в тот момент урока не было, связанного с автомобилистами. Ну, я сижу, смотрю, выходит Виталий Алексеевич, директор наш, тоже авторитетнейший человек. Его очень уважали, любили, боялись. И, значит, он выходит, в руках связка ключей. И выходит в ту строну, где те елки вдоль спортзала. Через некоторое время смотрю идет наш Василий Николаевич, держит двумя руками сверху и снизу, как эксперты, бутылку вина. За ним идут трое старшеклассников, среди них был Витя Чехов, а сзади идет директор, в руках палка – он всегда ходил с палкой – и этой палкой ребятам под зад. И если бы кто-то на него пожаловался бы – то сам бы и получил добавки, потому что если директор дал палкой, значит за дело. И они заходят в кабинет, впереди идет Василий Николаевич, позади Виталий Алексеевич, и между ними эти ребята. А сейчас портрет этого мальчика, которого ругал Виталий Алексеевич, на стене школы — он погиб в Афганистане. А рядом мемориальная доска в честь Виталия Алексеевича.
А когда у нас был выпускной вечер, он проходил в школе, к нам приехал милиционер, кажется, на «запорожце». И кому-то в голову пришла идея: мы взяли эту машину все вместе, подняли и отнесли за управление образования, туда, где сейчас построили хореографическую школу, там раньше что-то типа скверика было и кусты росли. Вот в эти кусты машину и спрятали. Василий Николаевич сначала ругался, ругался, а потом махнул рукой, достали, мол. Милиционер вышел, а машины нет. Ну, сказали ему, конечно, что пошутили. Он поругался и уехал. А мы пошли на Красное Солнышко пешком.
Еще классное впечатление – это цирк. Раз в две недели по телевизору показывали выступления цирковых артистов, а потом эти артисты волшебным образом у нас оказывались. Например, Марчевский, Олег Повов даже был. На Олега Попова я не попал, а Марчевского своими глазами видел. А еще в передачах были такие братья Аванесян. И они на руки наматывали ленты, поднимались на них, опускались, делали различные трюки. И я понимал, что это жутко трудно. И вот эти гимнасты высшего класса к нам приезжали, я на их выступление ходил раз пять.
А билеты на вечерний сеанс в кинотеатр «Россия» было вообще не достать! А «Авангард» — это был кинотеатр повторного фильма, там сейчас спортивный зал. В кинотеатр «Труд» я всего один раз попал. А отец мой помнит открытый кинотеатр возле вокзала, между мостиком и городком аттракционов. Там даже сейчас от него загородки остались.
В Комсомольском парке стояло два самолета стареньких. Я так понимаю, это были ЯК-50. Они просто там стояли, по ним мальчишки лазили, и с каждой неделей там оставалось все меньше и меше деталей. Один красненький был, другой, кажется, синий. Мне лет девять или десять было, жили мы недалеко. Мне запрещали выходит со двора, но я все равно бегал. Не один, конечно, с ребятами. Там были очень хорошие горки, с которых скатываться было очень большое счастье зимой. Эти самолеты стояли выше, чем городок аттракционов, сейчас там какие-то сделали пространства для выступлений. А сам городок аттракционов – это было чудо. На выходных рядом с парком машину негде было поставить. Мы знали, что машины приезжали из Кабардино-Балкарии, из Краснодарского края, со всего Ставропольского края, и яблоку негде было упасть. Аттракционы работали во всю! «Ромашка» крутилась, и мне этот городок в детстве казался таким огромным! Классное место было.
А еще там был медведь. И однажды мальчик протянул ему яблоко, и мишка полоснул его по руке. Был очень большой скандал. Но с мишкой, кажется, ничего не сделали. А потом оказалось, что я с этим парнем работал через некоторое время. Тимур его звали. Все нормально, только шрамы были на руке. Но в детстве, он, конечно, натерпелся страху. Ему было лет одиннадцать. Да, этого медведя я очень хорошо помню.
И колесо обозрения там было больше, чем сейчас на вокзале. Автодром был, 40 копеек стоил автодром, дороже всего.
Еще там был музей космонавтики. Только почему-то елки куда-то делись, которые космонавты посадили. И еще там были фигурки сказочных существ, вырубленные из дерева.
Помню две зимы 1978-1979 годов или 1979-1980 годов, сейчас уже не скажу, и эти зимы были очень снежные и морозные. И мы ходили играть в хоккей на Старое озеро. Я играл в маминых коньках, коньки мне были маловаты, 36-го размера. И я все мечтал о новых коньках. А один раз я провалился на Стром озере под лед, но ничего страшного, только одной ногой. В руках клюшка была, и я зацепился. И я помню, как шел на мокрых коньках домой. Я не очень хорошо играл, но с удовольствием. Другие мальчишки играли лучше, называли себя Яри Курри, что-то в таком духе.
И были беговые лыжи. Горные тогда только начинали входить в моду. У меня отец вырос на Урале, там-то на лыжах стояли все. И вот мы с ним ходили на лыжах аж за Замок. Отец так обрадовался, что можно было на лыжах ходить!
А летом озеро переплывали. Там даже соревнования проходили по плаванию на открытой воде. Это был год 1972 или 1973. Помню еще там был день города, выступали Кобзон и Кикабидзе. Мы, дети, держали над головой такие белые штучки с надписями «Мир, труд, май».
Кстати, в городе стало много птиц. Раньше было меньше. Хотя, казалось бы, должно быть наоборот. Сейчас прям какое-то разнообразие. Раньше такого и близко не было. А вот белок наоборот было больше. У меня даже есть фотография, где я сразу двоих кормлю. Но наши не такие наглые, как в Петербурге.
Сколько себя помню – столько помню пончики. Но они были немного в другом месте. Была такая будочка небольшая, столы были без стульев или стулья были очень высокие, сейчас на этом месте стоит торговый центр, возле которого ходит медведь-зазывала. Эти пончики – визитная карточка Кисловодска. А еще пирожные, особенно картошка. Палатка стояла на Героев Медиков, раньше это улица Братская была.
Я встречался со своей будущей женой, она жила в Пятигорске, но знала, что в Кисловодске есть такое место, где есть удивительные пирожные. Я покупал их, вез ей в Пятигорск. А как-то раз она приехала в Кисловодск, я говорю: «Что ты хочешь посмотреть?», а она говорит: «Я хочу вот эту будку найти». Слава этого магазинчика была далеко за пределами Кисловодска!
Из ресторанов, наверное, самым крутым был «Замок». Но я не любитель ресторанов, был там всего раза два. Ездили туда с нашими гостями, они восхищались все, а я как-то был равнодушен. Потому что у нас дома все замечательно готовили, и тетя, и сестры, и бабушки изумительно готовили. Но люди, которые туда приезжали, у них глаза подкатывались от восторга. И место, конечно, удивительно красивое. Есть даже фотография этого места у Раева, кажется, 1903 года. Надо посмотреть.
И конечно, «Храм воздуха». Там шеф-поваром был Николай Михайлович Горбунов, наш сосед. И Николай Михайлович был удивительный человек, фронтовик, он знал наизусть всего «Василия Теркина», это фантастика!
Он обожал Твардовского. И я как-то спросил: «Дядь Коль, а как вы так?», а он говорит: «Выдавали всем газету «Красная звезда», а «Теркин» как раз выходил в «Красной звезде». А что делали мужики? Они газету пускали на самокрутки и курили». А я говорит, не курил. И так получалось, что перечитывал эту газету раз по двадцать-тридцать. Что делать, когда свободное время есть? И он мужикам газету отдавал, а вырезки с «Теркиным» себе оставлял. И по много раз перечитывал. Так и выучил. Так он еще и «Василия Теркина на том свете» выучил! И у него эти книжки дома стояли.
Изумительные люди выходили из города! Мой отец знал скульптора Курегяна, они были друзья или близкие товарищи. Я в мастерской его много раз был. Очень тонкий человек, учил меня, как в музеи ходить. К одной картине, или к одному художнику по несколько раз. Чтобы все изучить. Я благодаря нему ходил в Третьяковку шестьдесят три раза. И шестьдесят шесть раз в музей имени Пушкина в Москве. Он очень хорошо разбирался в искусстве, глубоко чувствовал музыку. Великий человек.
Кстати, скульптура «Демона», я считаю, единственная скульптура на КМВ мирового уровня. Она навеяна врубелевским «Демоном». Она сделана очень стильно. Это тюрьма. Это тюрьма для Демона. Место, где Демон заключен. И он заключен на Кавказе. То есть это место, где демоны в заключении. Кто-то сказал, что памятник дьяволу. Да не дьяволу это памятник! Это очень стильным памятник Лермонтову! А вот то, что ему вкрутили красные глаза-пугалки – зря. Этот Демон – это не пугалка, это очень серьезный, глубокий символ. И с точки зрения понимания образа Лермонтова – что на Кавказе все демоны попадают в заключение, что им не дают вырваться. Если не ошибаюсь, там Фриденталь был архитектор. Какой у него на самом деле был замысел я не знаю, это лишь мое предположение. Но скульптура очень высокого уровня. А глаза ужасные.
Антон Массовер









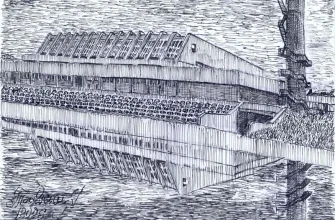
Много интересного о Кисловодске и кисловодчанах.