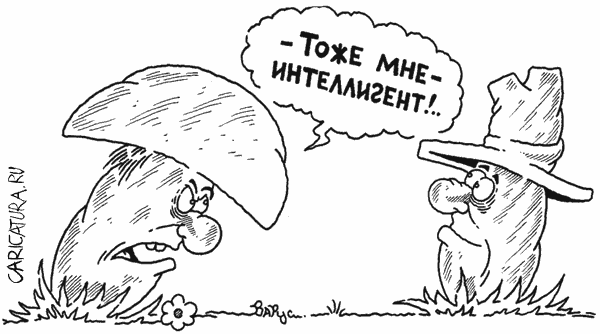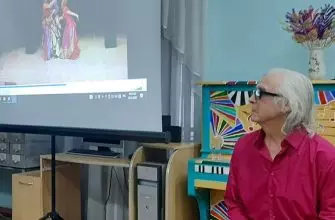ОТ АВТОРА. Эта повесть представляет собой зарисовки о современной жизни, разбавленные ностальгическими воспоминаниями о советском детстве и юности. Будет интересна тем, кто родился в 60 — 70-е годы и застал расцвет Советского Союза,- поколению, которому обещали коммунистическое будущее и которое в большинстве своем не смогло вписаться в нынешние реалии.
1.
Валентина толкалась среди шумного роя суетливо жужжавших покупателей супермаркета – заманивая клиентов скидками века и кэшбэком, эффективные менеджеры эффективно опорожняли их кошельки, кредитки и иные носители наличных и безналичных средств. Еле выбравшись из кипящего водоворота непотребного потребления, она протиснулась сквозь толпу к выходу, и стеклянные створки автоматических дверей, выплюнув не очень выгодную покупательницу, бесшумно захлопнулись за ее спиной. Зябко поежившись, Валентина ступила на обледенелые плиты тротуара, ежегодно обновляемого неутомимым мэром, видимо питающим неутолимую страсть именно к данному виду дорожного покрытия, причем в особо извращенной форме, и направилась в сторону хрущевки, хмуро выглядывающей из-за позолоченных куполов новенькой церкви.
Мороз крепчал. Многочисленные насельники никогда не засыпающего города осторожными шажками семенили по тротуару, скользили и падали, с хрустом ломая себе конечности, позвонки, ребра и прочие ненадежные скрепы хрупкого человеческого организма, но Валентина шагала уверенно и легко. На ногах у нее плотно сидели коричневые замшевые сапоги из натуральной кожи комбинированного дубления, сделанные на совесть трудолюбивыми и любвеобильными итальянцами. Однако легкость ее перемещения по ледяным торосам, ямам и колдобинам, неотделимым от благословенных богом отеческих дорог, объяснялась не улучшенными качественными характеристиками удобной для носки обуви, а надетыми поверх нее зелеными хлопчатобумажными носками. Такому незамысловатому способу защиты от гололеда Валентину научила бабушка, не желавшая сдавать позиций проклятому остеопорозу, без разбора поражавшему едва перевалившую за полвека прекрасную половину человечества.
Государство, обреченное на хаос без цветовой дифференциации штанов, еще не добралось до регулирования окраски мелких аксессуаров и в этом смысле предоставляло своим гражданам полную свободу действий. Поэтому выбор Валентиной такого жизнерадостного оттенка носков был обусловлен, кроме подтверждения рухнувших надежд, следующими не лишенными актуальности и здравого смысла соображениями: красный, конечно, прекрасен и уже не опасен подозрениями в верноподданности, но в элегантном возрасте смотрится не очень элегантно и даже смешно. Бесспорно и то, что синий – банально, розовый – тривиально, желтый – патриархально, лиловый – экстремально… А в черном явственно слышится погребальный звон, – и он, к тому же, слишком брутален…
Прохожие с нескрываемым изумлением таращились на нее, оглядывались, чуть не сворачивая обмотанные разноцветными шарфами шеи, и порой даже крутили пальцем у виска, но Валентина, давно оценившая тормозные качества хлопчатобумажных изделий, стойко игнорировала проявления назойливого внимания окружающих.
Навстречу, втянув коротко стриженную непокрытую голову в задрапированный длиннейшим красным шарфом ворот камуфляжной куртки, лоснившейся от времени и жизненных передряг, осторожными шагами спортсмена с непростой судьбой двигался невысокий, кряжистый мужчина с широким, как разлившийся Днепр, обветренным лицом. В двух шагах от Валентины он неуклюже заскользил по нарочно укатанному школьными вредителями участку тротуара и судорожно взмахнул выдернутыми из карманов руками, будто собирался отвесить встречной женщине галантнейший поклон. Явив пристрастному взгляду Валентины растопыренные пальцы с не очень ухоженными ногтями и необработанными кутикулами, он рухнул прямо ей под ноги и остался лежать, раскорячив коротковатые конечности, наподобие безвременно почившей на океанском дне морской звезды.
«Экий обрубок!» – подумала Валентина, попутно отметив затейливую вязку шарфа опытным глазом ветерана трикотажного производства, освоившего не только главные, но и производные переплетения.
Опасно хрустнув шейными позвонками, поверженный повернул небритое, мятое лицо к стоявшей над ним женщине и, завороженный зеленью носков, непривычно свежей среди унылого зимнего однообразия, оторопело уставился на ее ноги.
Мимо с своим бесчувствием холодным ходил народ, будто в сердце каждого прочно сидел зазубренный осколок небезызвестного зеркала, оброненного заигравшимися помощниками хладнокровной королевы. Валентина растерянно заглядывала в отстраненные лица суетливо пробегавших мимо прохожих, как привередливый гражданин мира Диоген, так и не сыскавший днем с фонарем на неприбранных улицах афинского полиса ни одного приличного античного человека. Наконец она просительно тронула за синтепоновый рукав долговязового парня с торчавшими из-под скандинавской шапки наушниками, но тот равнодушно скользнул пустыми пластмассовыми глазами магазинного манекена по распростертому поперек тротуара беспомощному телу и снова прилип к своему гаджету. «Гад же ты! – возмутилась Валентина. – Эх, мало, мало мы учим молодежь милосердию!» – и сама протянула падшему руку помощи:
— Ну, вставайте!
Веленью милому покорный, он встал, пошатываясь, и, с трудом обретя обманчивую опору на широкой груди матери-земли, благодарно стиснул благородную руку в замшевой перчатке. Окинув спасительницу простым и нежным взором, он сглотнул, дернув щетинистым кадыком:
— Ах, какая аппетитная!
Слегка покоробленная такой прямолинейностью, Валентина тем не менее горделиво приосанилась: «Пятый номер груди – это и в Африке пятый номер, даже если тебе за пятьдесят…»
Она всмотрелась в продолговатые скифские глаза мужчины, потертые шестидесятилетней (как минимум!) таской, запоздало пожалев о том, что утром слишком небрежно закамуфлировала неизбежные отметины времени на своем лице. Совершив беглый осмотр кургузого тела, будто побывавшего на неумолимом ложе злодея Прокруста, Валентина с каким-то невыносимо грустным, щемящим чувством отвела глаза.
Вдруг яркая вспышка выхватила из пыльных закоулков памяти, затянутых паутиной прожитых лет, вечер накануне Нового 1984 года, красный шарф, собственноручно связанный ею и преподнесенный смущенному студенту спортфака в качестве залога чистой любви, не запятнанной лишними физиологическими познаниями, и сережки мерзлой зимней вишни в Ботаническом саду за окном университетского общежития номер пять в маленьком провинциальном городке…
— Саня, – едва слышно выдохнула Валентина, – Саня…
Воображаемый Саня не повел даже ухом, ни сном ни духом не ведая о том, что неосторожно разбудил в ее душе огнедышащий вулкан, доселе пребывавший в блаженном летаргическом сне. Воровато стрельнув по сторонам раскосыми и жадными очами, потомок скифов выхватил длинную французскую булку из Валентининого пакета и, широко разинув несвежую пасть, отхватил основательную часть батона, потом пробормотал с набитым ртом:
— Аппетитная какая!
Развернувшись, он торопливо зашагал от оторопевшей Валентины, размахивая стремительно уменьшающимся хлебобулочным изделием, затем, оглянувшись на нее, безразлично бросил:
— Меня Агафон зовут…
2.
Валентина проводила долгим взглядом квадратную спину не вполне адекватного гражданина и, в недоумении пожав плечами, пошла своей дорогой. Растревоженное пустыми хлопотами глупое сердце мстительно толкнулось в ребра, и, украдкой погладив его поверх великолепно сохранившегося меха давно вышедшей из моды норковой шубки, она тяжело вздохнула: «И с чего это я решила, что этот замшелый обрубок – Саня?»
Ох, Саня, Саня… Память вновь услужливо выудила из тягучей череды лет суровое, волевое лицо с неожиданно беззащитной ямочкой на массивном подбородке и крепко скроенную, ладную, хоть и нескладную фигуру, напоминавшую ей виденный когда-то гранитный монумент в честь павших покорителей неприветливых кавказских вершин.
Но как он вздрогнул, как засуетился, когда, принимая в дар от Валентины по случаю праздника произведение прикладного искусства, вдруг разглядел в широко распахнутых девичьих глазах неопровержимые свидетельства старого, как мир, чувства, испокон веков приводившего в движение основательно проржавевшие механизмы Вселенной! Спортсмен взмок и покрылся обильной испариной, как неопытный посетитель бани, с непривычки сомлевший в душном мороке экзотического хаммама, и, промямлив несколько бессвязных слов, лишь отдаленно напоминавших признательность, малодушно покинул поле гендерного противостояния.
Так он и не узнал, сколько дней и ночей потратила Валентина, любовно выстраивая из хитросплетений петель замысловатые узоры, будто сочиняя полное тайных магических знаков криптографическое письмо. Закрепив узелком последний стежок, она распускала шарф и, вызывая шквал шуток у подруг в общежитии, начинала вязать заново, мечтая когда-нибудь связать свою жизнь с застенчивым героем, почему-то старательно избегавшим ее, и в перспективе рука об руку свершить с ним смиренный жизни путь.
Те же на первый взгляд лишенные рациональности действия, правда, в диаметрально противоположных целях, предпринимала хитроумная царица, соломенная вдовица Улисса, которая смогла провести на мякине не очень организованную группу назойливых женихов, пока на чужбине сам властитель Итаки, беспутный гуляка, ждал попутного ветра, блуждая по воле мстительного бога, колебателя земли, по бесконечным просторам многошумного моря.
После невнятного тактического маневра Сани, который объяснялся, как потом оказалось, вполне обдуманным стратегическим расчетом, Валентина провела бессонную ночь – ужасную ночь. Наутро, сдав зачет по английскому языку, она вернулась в общежитие и, с ожесточением забросив вязальные принадлежности на пыльный верх одного на всех шаткого полированного шкафа, легла на свою скрипучую железную кровать и принялась пытливо изучать тронутые сезонным тленом кленовые листья на дешевых бумажных обоях. Целых два дня Валентина не пила, не ела, шаталась по тесной комнате, бледная, как тень, не зная сна. Глядя на нее, подруга Анжелка хмурилась и качала головой:
— Комсомольское сердце разбито…
На изобилующем личными драмами жизненном пути Валентине еще не раз пришлось столкнуться с вопиющей слабостью сильного пола, но никто из последующих соискателей комфортного местечка в ее сердце не наносил ей столь ощутимой и долговечной душевной травмы…
Непреодолимая страсть к немецкому языку, вовремя замеченная и вскормленная скромным сельским работником педагогического труда, привела Валентину на факультет романо-германской филологии провинциального университета, где она и познакомилась с Анжелой. Подруги слыли недотрогами, хотя, строго говоря, не относились к известному разряду холодных, как зима, неумолимых и неприступных – до первого приступа – красавиц, да и безнадежную надпись ада не надо было искать над их юными бровями, еще не знавшими ни карандаша, ни татуажа.
Валентина сторонилась противоположного пола, будучи не в силах изжить бабушкино воспитание, а Анжелка… Анжела была девушкой видной – по крайней мере, видно было ее издалека – но найти друга ей оказалось непросто из-за двухметрового роста, который весьма способствовал ее баскетбольной карьере, но в то же время являлся серьезным барьером для устройства личной жизни. Будучи реалистом, она вполне объективно оценивала свои гренадерские стати и, кстати, острый, как опасная бритва, язычок и шутила:
— Единственное спасение от моего характера – харакири!
На третьем курсе Анжелка принесла благую весть о том, что с Валентиной желает завязать далеко идущее знакомство некий студент инженерно-технического факультета, приметивший ее на стадионе, когда она активно уклонялась от занятий физкультурой, а потом как бы невзначай столкнувшийся с ней во время обязательного вечернего моциона.
Явившись на смотрины со своим другом, инженер, уплетая за обе щеки Валентинин плов и расточая комплименты ее кулинарным талантам, украдкой ощупал хитрым крестьянским взглядом ее самое выдающееся достоинство, а затем вероломно стал оказывать явные знаки внимания подруге Фаине.
Заметив, что лукавый кавалер, наевшись плова, уже готов вырваться из расставленных силков, Анжелка, сделав страшные глаза, весьма ощутимо двинула его локтем в костлявые ребра – тот виновато улыбнулся, но пялиться на другую не перестал.
Ограничившись в шумном застолье чисто символической ролью, первая красавица группы Фаина пересела на свою кровать и разложила на округлых, великолепной лепки коленях пахнущие свежей типографской краской листки многостраничной «Noues Deutschland» – восточногерманского периодического издания – неиссякаемого источника заданий и головной боли для студентов. Газета эта и теперь не канула в Лету, хотя и потеряла былую популярность.
Скрестив стройные длинные ноги, нахально произраставшие практически из-под мышек, Фаина занялась переводом статьи о творчестве пролетарского художника Генриха Цилле, впервые явившего миру уродливое мурло берлинской улицы, еще не облагороженное светлыми идеалами всеобщего равенства и братства. Фаина полной душой предалась чтению, выказывая восхитительное, ничуть не показное безразличие ко всему остальному миру, и, время от времени, покусывая от усердия пухлые губки, выписывала наиболее заковыристые вокабулы в специальную тетрадку.
Допив чай, будущий Кулибин покинул застенчивого друга и, с легкостью опровергнув утверждения о сакральной связи пищеварения с сердечным недугом, подтянул непритязательные джинсы индийского производства и подсел к Фаине. Бойко скрипнув пружинами повидавшей многое на своем веку казенной койки, он с непробиваемым деревенским апломбом сказал:
— Ты знаешь, что кроликов можно научить курить?
На ее одухотворенном, точеном лице итальянской кинодивы отразилось сильнейшее удивление, не сходившее в течение всего вечера. Но, видимо, парень обладал какой-то сверхъестественной магической силой, поскольку красавица, доселе счастливо избегавшая венца, не дождавшись даже конца семестра, вышла замуж за инженера-недоучку, перевелась на заочку и уехала в глушь, в деревню, к тетке, воспитавшей ее суженого-сиротку.
Валентина, обладавшая если и не такой очевидной красотой, то бесспорным обаянием, даже не заметила вероломства парня, приведенного Анжелкой ради нее, – она уже прочно увязла в зеленоватой топи продолговатых скифских глаз его приятеля-спортсмена. Сердечное томление, давно теснившее младую грудь пятого размера, как-то незаметно, вдруг, вызрело в невыразимое чувство – нечаянно нагрянула любовь…
Окончив университет, Валентина вернулась по распределению в свою школу. Скромный работник педагогического труда, обучавший ее азам чужого языка, уже наслаждался радостями еще более скромной пенсии, и Валентина с усердием отличника-ботаника принялась за принудительное онемечивание школьного поголовья, отдавая все силы и здоровье этому увлекательному занятию. Но в глуши забытого селенья, занятого больше житейскими заботами и трудами, ее безотрадная страсть к Сане разгорелась еще пуще… О сердце, разорившийся банкрот!
Так совпало, что именно в это время страна, бурлившая, как изношенный до крайности паровой котел, пала на радость всему западному миру, падкому на распад враждебных территории. Согласно топавший в заданном направлении народ – безглазный и безгласный, как сокрушался известный бард, во всем, кроме тембра голоса, совпадавший со своей фамилией, – этот самый народ с изумлением всмотрелся в нечеловеческое лицо социализма, построенного с таким трудом, и, расстроенный его явной нефотогеничностью, затосковал. Дружественные дотоле страны вкупе с населением братских республик – четырнадцати любимых сестер – с невиданной прыткостью бросились наутек из социалистической коммуналки, дабы не быть раздавленными рухнувшим колоссом. В результате этих небывалых геополитических сдвигов обе части Германии, разделенной ввиду последнего неудавшегося блицкрига, кинулись в
объятья друг другу после более чем сорокалетней разлуки.
Империя рухнула, и взорам обитателей ее бесприютных обломков явились чудеса демократии, рыночной экономики и долгожданной свободы, на поверку оказавшиеся дарами коварных данайцев. Социальные потрясения обернулись сокрушительной невостребованностью профессии учителя вообще и немецкого языка в частности. Наслышанные о кооперативах, рэкете и прочих методах быстрого обогащения, дети отказывались углубляться в запутанные формы перфекта и плюсквамперфекта и со смехом отворачивали от настырной училки лица, не опечаленные умножающими скорбь знаниями.
Не понаслышке испытав на себе безысходность переходного периода, Валентина решила поискать счастья в столице.
Так, в одно не очень прекрасное пасмурное утро в свои двадцать семь лет она оказалась в толпе других провинциалов – ловцов удачи – под гулкими сводами Казанского вокзала, привезя в дар мегаполису нетронутую пыльцу невинности и неподъемный груз знаний, не имевших никакого практического приложения.
3.
Одолев незатейливый набор искомых цифр кодового замка, Валентина вступила в затхлый сумрак подъезда, пропахшего плесенью, кошками и вездесущими бомжами: лица без определенного места жительства каждую ночь каким-то образом беспрепятственно проникали в теплое нутро помещения общего пользования и, уютно устроившись под раскаленными радиаторами центрального отопления, спали крепким сном не ведающего кишечных колик младенца. Хотя еще в лихие времена первоначального накопления капитала, когда подъезды стали местом не всегда мирных наездов подозрительных субъектов, жители скинулись скрепя сердце и поставили кодовый замок, оградив себя от споров и раздоров нежелательных лиц. С тех пор записанная аккуратным почерком комбинация заветных цифр хранилась в кошельке Валентины на случай внезапной амнезии, занозой сидевшей в голове, но иногда в кошмарах, сопровождаемых обильными слезами и особенно сильными приливами, она видела долгие одинокие бдения перед неумолимой железной дверью.
Оказавшись наконец в передней своей двушки на втором этаже, Валентина, скинув норковую шубку, верой и правдой служившую ей уже много лет, бережно повесила ее на плечики, поставила сапоги в угол, предварительно стянув с них зеленые носки для стирки. Бросив опасливый взгляд в мистическую глубину освещенного двойным бра зеркала, увитого по краям бронзовыми пучками неизвестного растения, она увидела в тусклом овале удручающе зрелое лицо с обреченно-тоскливым выражением женщины с так называемым ищущим взглядом.
Вздохнув, Валентина погрузила ноги в меховое тепло невероятно удобных тапочек с загнутыми носками, незадолго до этого в счет оплаты долга привезенных из Турции предприимчивой соседкой Глафирой. Вручив ей фирменный пакет с многообещающей надписью «Istambul Bazar», она с загадочным видом пробежалась пультом по беспорядочным нагромождениям кабельных каналов. Поймав нужный сигнал, соседка продемонстрировала Валентине, что в такой обуви ходят даже изнеженные одалиски из гарема великолепного киношного султана, в перерывах между щербетом и рахат- лукумом массово умерщвлявшие своих более удачливых в любви соперниц.
Валентина с облегчением высвободилась из железных объятий лифчика, задорого купленного в магазине «СчастлиФчик», но не оправдавшего надежд, и, переодевшись в салатовый халатик с огнедышащими китайскими драконами, прошла на кухню. Разбирая пакет с продуктами, она вспомнила, что у нее нет хлеба, – французскую булку умыкнул как раз попавшийся на пути в недобрый час чёртов… как там его… Агафон.
Однако это малоприятное событие не стало препятствием для сытного ужина: с помощью предусмотрительно сохраненной в хлебнице черствой булочки и пары яиц она соорудила вкуснейший омлет с аппетитно подрумяненными хрустящими гренками.
Не зря ее третий муж со смешным именем Карп, бывший дипломат, сгубивший карьеру из-за непреодолимой страсти к искусственно подогреваемым радостям жизни, утверждал, что ее блюда ничуть не уступают гастрономическим изыскам избалованных туристами мишленовских ресторанов. Когда они расставались после трех лет супружества, опальный представитель избранного дипломатического сообщества, страдая всеми фибрами своей тонкой души, так и не понятой толстокожей женой, в исступлении бросал в потасканный фибровый чемоданчик разрозненные предметы своего гардероба и кричал, выпучив до критического предела мутные глаза обитающей в загрязненном водоеме рыбы:
— Да я ни одного дня не прожил бы с тобой, если бы не твоя стряпня! Я, дипломат высшего ранга, принятый в лучших домах Асунсьона и Монтевидео, убил целых три года на эту странную, если не сказать больше, женщину! Женщину, которая в шестьдесят лет путает Уругвай с Парагваем!
Крайняя щепетильность Карпа по отношению к Уругваю и Парагваю объяснялась тем, что именно в этих не самых значимых с точки зрения геополитики странах он нес нелегкую службу по налаживанию туманных связей между разделенными океаном и не имеющими ничего общего народами.
— Жаль, что тебя так и не приняли в лучших домах Сан- Паулу! Да и вообще, Карасик, мне лишь немного за пятьдесят, – саркастически заметила Валентина, намеренно называя его прозвищем, которое он не переносил на дух.
— Женщину, – поправив очки на носу, повысил голос бывший дипломат, – смысл жизни которой заключается в ненормальной, патологической, маниакальной тяге к чистоте!
— Знаешь, наш брак был обречен, у нас диаметрально противоположные взгляды на базовые ценности, – сказала Валентина, со сдержанным оптимизмом наблюдая за его метаниями.
Карп заскрежетал зубами и, с ненавистью захлопнув крышку чемодана, бросил в лицо жене приберегаемый напоследок убийственный аргумент:
— Женщину, которая одевает зимой поверх сапог носки, чтобы, видите ли, не скользить и не падать! Женщину, которая выставляет себя на посмешище! Женщину, которая ходит по улицам столичного города в носках, дабы уберечь свои пожилые кости!
— Надевает, Карасик, надевает, – с язвительной улыбкой исправила его грамматический промах Валентина, – и позволь — ка мне самой отвечать за состояние своего скелета…
Не очень искушенный в супружеских прениях Карп сдернул с носа круглые очки, дрожащими руками протер стекла аккуратно отглаженным женой носовым платком, дико вращая своими рыбьими глазами, лихорадочно подыскивая слова, способные испепелить коварную супружницу на месте. Однако таковые не обнаружились в его преимущественно испаноязычном лексиконе, и, выдвинув привычное обвинение: «Провинциалка!» – он завершил обмен колкими дипломатическими нотами.
Засунув под мышку чемодан, из пасти которого свисал ярко-оранжевый галстук с рисунком в виде расслабленно возлежащего в шезлонге солнца, уместный не здесь, посреди холодного северного снега, а на утопающих в неге пляжах Южной Америки, где балом правит бог веселых и бездумных, Карп хлопнул дверью и стал для Валентины персоной нон грата.
4.
 После развода со вторым мужем Игнатом Валентина чаще стала видеться с Анжелкой, давно перебравшейся в столицу. Анжела вовремя сумела разглядеть полную бесперспективность профессии, опрометчиво выбранной в пору легкомысленной юности, и, отучившись в начале девяностых в финансовом вузе, устроилась на работу в солидную ресурсодобывающую компанию – уборщицей. Как и все, жадною толпой стоявшие у нефтегазового корыта, Анжела обладала абсолютной финансовой независимостью, однако на личном фронте все так же терпела одно фиаско за другим – перевалив за полувековой рубеж, она так ни разу и не сходила замуж. Мужчины при ней тушевались и, не разглядев за ее внушительной тушей тонкую, ранимую душу, обычно ретировались под разными надуманными предлогами.
После развода со вторым мужем Игнатом Валентина чаще стала видеться с Анжелкой, давно перебравшейся в столицу. Анжела вовремя сумела разглядеть полную бесперспективность профессии, опрометчиво выбранной в пору легкомысленной юности, и, отучившись в начале девяностых в финансовом вузе, устроилась на работу в солидную ресурсодобывающую компанию – уборщицей. Как и все, жадною толпой стоявшие у нефтегазового корыта, Анжела обладала абсолютной финансовой независимостью, однако на личном фронте все так же терпела одно фиаско за другим – перевалив за полувековой рубеж, она так ни разу и не сходила замуж. Мужчины при ней тушевались и, не разглядев за ее внушительной тушей тонкую, ранимую душу, обычно ретировались под разными надуманными предлогами.
Помня о важной роли подруги в обретении ею не первой, но единственной любви, Валентина не оставляла забот об устройстве ее личной жизни и с фанатизмом, никогда ранее ей не свойственным, ходила с ней на вернисажи, выставки, концерты и даже похороны (как известно, кладбище – кладезь свободных мужчин).
Так, оказавшись на каком-то сюрреалистическом шабаше, подруги бродили по огромным залам, с изумлением обозревая экспонаты, представленные на суд многочисленных посетителей. На тщательно натертом драгоценном паркете, сбереженном от прожорливого пожара наполеоновских времен, валялись непринужденно разбросанные там и сям засохшие коровьи лепешки, источавшие не совсем эстетичные ароматы; трещала под ногами ореховая скорлупа, рассыпанная в виде каких-то иероглифов; осторожно лепились к стенам, дабы не рухнуть на чересчур любопытных эстетов, непонятные шаткие конструкции из проволоки с облупившейся окалиной – программка же призывала не верить собственным глазам, а безоговорочно принять утверждение о том, что весь этот мусор освободился от своей практической функции и приобрел функцию символическую.
Искусствовед, маленькая женщина весьма почтенного возраста с седыми старомодными буклями, в видавшем виды сером твидовом костюме и откровенно довоенных туфлях, жужжала нестерпимо высоким голосом, будто ввинчивая электрическим шуруповертом каждое слово в головы своих слушателей:
— Перед нами экспонаты, в которых самым удачным образом воплощен важнейший принцип теории параноидальных метаморфоз. Сюда, пожалуйста, поближе… Обратите внимание на смысловые модификации и игру значений представленных здесь эээ… экскрементов… экспонатов…
Старушка запнулась, ярко накрашенный рот изумленно округлился, вероятно поражаясь несусветной ереси, артикулируемой хозяйкой, затем морщинистый пучок ощерился, широко растянувшись наподобие улыбки Чеширского Кота, улизнувшего в очередной раз от собственного органа речи.
— Даааа, этому помещению не помешала бы хорошая уборка, – задумчиво протянула Валентина.
— Что ты понимаешь в современном искусстве! – засмеялась Анжела и озабоченно посмотрела по сторонам. – Интересно, где здесь туалет? Пойду поищу уединенный уголок. Низменные потребности, знаешь ли… А ты пока думай о высоком…
Валентина, в недоумении переходившая от одного экспоната к другому, остановилась перед источавшей специфический аромат мертвой крысой, подвешенной за хвост над россыпью небрежно скомканных исписанных листков. Вся тушка грызуна, кроме судорожно сжатых лапок с ярко раскрашенными в разные цвета коготками, была старательно облеплена кусочками засахаренных фруктов вплоть до толстого, суживающегося кверху хвоста, унизанного тонко нарезанными кружочками оливок, глазами же служили две вишневые ягоды гибридного крупноплодного сорта Шпанка. Заглянув в программку, Валентина узнала, что шедевр называется «Критик».
Недвусмысленная негативная трактовка этого образа, очевидно, весьма удовлетворила бы обольстительную и мстительную булгаковскую ведьму, которая ввиду идеологических, эстетических и прочих разногласий надолго обезвредила одного из представителей этой не полюбившейся ей профессии.
— Нет, это не Рафаэль, не Джотто, это, скорее, Сальвадор Дали, – услышала Валентина чей-то насмешливый комментарий и оглянулась.
Рядом с ней стоял настоящий, из плоти и крови, хотя несколько постаревший и погрузневший, Шрайбикус – известный персонаж советской германистики, бодро шагавший из учебника в учебник, расцвечивая сухое древо теории – немецкой грамматики – пышно зеленеющей листвой в виде весьма увлекательных зарисовок и наблюдений.
Озадаченно пощипывая коротко стриженную аккуратную бородку, он некоторое время с любопытством разглядывал весьма неоднозначный экспонат мутноватыми, неопределенного цвета глазами. Потом, покосившись на Валентину, достал из кармана черного пиджака строгого покроя замшевую салфетку и, старательно протерев стекла очков с дорогой оправой, снова уставился на странную конструкцию.
Произведение искусства представляло собой обычную вешалку для одежды, имевшую в качестве опоры две разновеликие ноги: одна была обута в изысканную туфельку из красной замши на высоком каблуке, а другая – в дырявый резиновый сапог. На верху конструкции каким-то чудом держалась стеклянная емкость – в ней бодро копошились крупные опарыши.
Поскольку постижение смысловых модификаций и игры значений данного арт-объекта оказалось для обоих зрителей неразрешимой задачей, Шрайбикус и Валентина почти одновременно потянулись к программкам и, узнав, что инсталляция называется «Моя рыбонька», переглянувшись, расхохотались от души.
Они соприкоснулись рукавами, и, хотя тяжелый шар земной устоял и не уплыл под ногами, между ними проскочила пресловутая искорка. Тусклые глаза ценителя прекрасного, будто два пруда, затянутые бурой тиной, одобрительно остановились на слегка перезрелой фигуре зрелой женщины:
— Вообще-то, образ насекомых как символ гниения и разложения присущ творчеству многих художников, так что инсталляция смотрится довольно органично… Но мне гораздо ближе Рубенс или Кустодиев…
С облегчением оторвавшись от созерцания неприглядной морды модернизма, они покинули выставку и, мило беседуя об эстетических отношениях искусства к действительности, направились к дверям. Анжела, колоссальная, как статуя Свободы, триумфально вскинув руку, радостно встретила их у выхода и, пока мужчина толкался у гардероба с номерками дам, шепнула подруге:
— Еле — еле нашла туалет, надеюсь, это была не инсталляция… И где ты эту рыбку поймала? Ну, чистый Шрайбикус!
— Жаль, ты «Рыбоньку» не видела, – засмеялась Валентина.
С трудом пробившись с верхней одеждой сквозь толпу представителей бомонда и остального народа – преданных подданных авангарда, Шрайбикус галантно помог одеться дамам: на бойца нефтегазового фронта накинул невесомую, легкую, как пух, длинную куртку из золотистой шерсти, а на Валентину надел видавшую виды, но весьма ухоженную норковую шубку. Облачившись в дорогое на вид черное пальто свободного покроя, он запоздало протянул маленькую холеную ладошку сначала Валентине:
— Извините, я не представился. Карп.
— Карп, – повторил он, подавая руку Анжеле.
Анжела издала какой-то сдавленный писк, уткнувшись в золотистый ворот куртки и, отпустив похожую на плавник крошечную ручку, переспросила:
— Зеркальный?
Скользнув взглядом по ее основательным телесам, Карп, помолчав, парировал:
— Обувь на заказ шьете?
Анжела испуганно округлила глаза, сраженная отнюдь не сарказмом Карпа:
— Ой, мамочки! Моя сумка! Забыла в туалете!
Анжела побежала наверх по старинной лестнице, грозившей рухнуть под ее тяжестью, топая, как гигантская птица Рух, мифическая пожирательница слонов.
Через пару минут Анжела появилась на верхней ступеньке, раскрасневшаяся, торжествующая, и прокричала:
— Нашла! Нашла!
Нежно прижимая к себе сумку в виде книги с изысканным переплетом, она запахнула свое золотистое одеяние и взяла Валентину под руку.
— Там, наверное, документы? – вежливо спросил Карп, разглядывая принты в виде серебристых мух на широкой застежке сумки.
— Да какие документы? Эта сумка из последней коллекции Гуччи! Кучу денег стоит!
Карп удивленно округлил рыбьи глаза, переваривая уплаченную за сумку сумму:
— Да вы пустили «Газпром» по миру с сумой…
5.
На промозглом ноябрьском ветру быстро улетучилась легкая контузия, вызванная стоимостью заурядного аксессуара, и широким гусарским жестом он предложил отметить знакомство и обмыть потерянную и обретенную вновь вещицу в одном уютном местечке.
Уютное местечко представляло собой фешенебельный ресторан с дизайнерской мебелью, люстрами в стиле модерн и живой джазовой музыкой. Изучая ассортимент предлагаемых блюд, Анжелка весело болтала в предвкушении праздника живота, но Валентина, краем глаза глянув на ценники, растерянно умолкла.
Однако Карп чувствовал себя как рыба в воде. Он явно хотел показаться одним из тех, кто может себе позволить читать меню слева направо, как новый американец, бывший ленинградец, променявший бледное очарование Северной Пальмиры на сияющий город на холме – столицу мира.
Фамильярным жестом завзятого завсегдатая Карп подозвал официанта:
— Любезный! Для начала подайте — ка нам бутылочку Шабли, салат гран нисуаз и устриц…
— А Карасик шикует! – исподтишка изучая его, буркнула под нос мстительная Анжела, невзлюбившая Карпа с первой минуты.
— Затем, будьте добры, телятину по-бургундски, утиную ножку конфи и, конечно же, фуагра со смородиновым соусом…
— Эх, гулять так гулять! – , оживленно потирая руки, сказала Анжела. – Всего-то пара-тройка лишних килограммов!
— Вы знаете, латиноамериканки очень успешно борются с весом, они практикуют несколько раз в неделю ванны с морской солью, – тусклые глаза Карпа насмешливо блеснули.
Анжела звонко засмеялась:
— Не сыпьте мне соль на раны, особенно морскую…
В ожидании заказа они сидели за накрахмаленной до скрипа белой скатертью, потягивая вино из широких бокалов.
— Я дипломат. – Карп наклонил бокал, манерно держа его пухлой ручкой за тонкую ножку, любуясь прозрачной консистенцией и средней вязкостью изысканного напитка, производимого бургундской винодельческой компанией исключительно из винограда элитного сорта шардоне. – Дипломат высшего ранга.
Пригубив вино, он, смакуя, подержал его во рту, с наслаждением закатывая выпуклые рыбьи глаза. Максимально возбудив свои вкусовые рецепторы, Карп открыл клапан пищевода и, интеллигентно булькнув горлом, позволил божественному нектару беспрепятственно следовать к месту назначения. Помолчав, он в благоговении выдохнул:
— Отличное вино! А терпкость…
— Терпимая терпкость! – с усмешкой перебила его Анжелка.
— А какое послевкусие… – Карп поставил бокал и торопливо добавил:
— Нет, вы только не подумайте… Я вовсе не любитель, разве только по праздникам, исключительно для сосудов!
Анжела прищурила искусно подведенные красивые карие глаза:
— Чтобы братец Альцгеймер не заявился раньше времени?
— И сестрица деменция тоже, – улыбнулся он, демонстративно обращаясь только к Валентине, – работаю в Южной Америке, после отпуска уеду в Бразилию, где много-много диких обезьян, точнее, в Сан-Паулу, я назначен туда консулом…
Несмотря на некоторую гротескность усиленно создаваемого им образа, ее впечатлила печать аристократизма во всем его облике.
Правда, душка Карп, как потом оказалось, был с душком – сивушным…
Прошла зима, наступил тот лихорадочный весенний день, когда мужская половина страны, объятая коллективным безумием, берет приступом специализированные магазины, сметая с прилавков все, что произрастает и цветет в парниках и оранжереях, а то и в незащищенном грунте во всех уголках планеты, и в марте, когда только начинает таять снег, заботливо развозится по городам и весям для реализации втридорога преданными жрецами богини Флоры – цветочной мафией.
Во времена канувших в Лету древнеримских Сатурналий, посвященных богу земледелия, совсем не в честь которого изящные гетеры поднимали свои точно мраморные пальчики, по давней и нерушимой традиции патриции на три дня менялись местами с рабами, полностью отказываясь от их услуг. У слуг появлялась возможность отплатить им за все унижения и обиды – хозяева не имели права перечить новоявленным римским гражданам.
Точно так же в этот радостный мартовский день мужчины освобождают от всех обязанностей свои дражайшие половины, задаривают подарками и другими знаками внимания, со слезами благодарности на глазах поминая незабвенную Клару Цеткин — революционерку, суфражистку и феминистку.
Но вот падает двенадцатый час, как с плахи голова казненного, – и проходит наконец этот безумный, безумный, безумный день… Со вздохом спрятав свою корону на дальнюю полку до следующего года, королева переодевается в растянутый халат и превращается вновь в домашнюю рабыню, а розовый лимузин – в стиральную машину… Сатурналии закончились, детка…
Когда Валентина рассказала Анжеле о том, что в качестве подарка Карп свозил ее на три дня в Крым, уже вернувшийся к тому времени в родную гавань, и там, под цветущими мальвами и трепещущими от легкого бриза пальмами, сделал ей предложение, Анжела отвела взгляд:
— Боже! У него глаза снулой рыбы… Я бы не смогла с ним жить…
Соединение любящих сердец решили отметить на малой родине Валентины – мать до сих пор при каждом удобном и неудобном случае напоминала о бесславном браке с Игнатом – чужаком, вдобавок ко всему зажавшим свадебные торжества.
Кроме мамы и дочки, двадцатилетней Карины, были приглашены несколько соседей и подруга дней ее суровых одноклассница Светка, ничуть не изменившаяся за прошедшие годы.
Все больше распаляясь от паленого спиртного, мужчины горячо толковали за жизнь исключительно на своем наречии, упорно игнорируя гостя и общепринятый язык межнационального общения. Объявленный дипломату вотум недоверия Валентина вынужденно проигнорировала: Карина, студентка филологического факультета местного вуза, только что «похвасталась» наличием жирного хвоста по зарубежной литературе.
Преподавательница, молоденькая аспирантка, ценительница Гете и Гейне, возжелав большой и чистой любви, залетела от залетного студента-африканца и укатила с ним на черный континент, как оказалось, в качестве третьей жены. А отношения с новым преподавателем, которому срочно требовались средства на возведение трехэтажного дома в элитном районе столицы республики, не задались с самого начала…
Горцы без стеснения угорали, глядя на столичного гостя, который потел в черной пиджачной паре из лондонского магазина «Харродс», как белая ворона, в то время как остальные приглашенные демонстрировали полное пренебрежение к дресс-коду.
Карп благоразумно воздерживался от употребления горячительных напитков, но чувствовал себя, как ступивший на враждебную территорию бедолага Кук, скушанный впоследствии симпатягами-аборигенами.
Не секрет, что кавказцы кое-где у нас порой демонстрируют необъяснимое пренебрежение и даже наплевательское отношение к правилам приличий, принятым в чужих культурах. Положа руку на сердце, и на свои скрижали они могут положить при условии, если заснеженные вершины Главного Кавказского хребта находятся вне зоны видимости.
Справедливости ради следует добавить, что и на явную демонстрацию горцами дружелюбия противоположная сторона отвечает со всей возможной сдержанностью – по принципу, точно подмеченному местным философом: любить люби, но на взаимность не рассчитывай.
Но ради друга – независимо от его национальности – горец может свернуть горы.
Улучив минуту, Валентина подсела к Карпу:
— Ну как ты?
— Амбивалентно, Валентина, – вздохнув, шепотом ответил он, дабы горячий, как известно, народ, который здесь живет, не обвинил его в использовании неприличных выражений в своем доме.
Когда из широко распахнутых дверей ветхого родительского дома раздались залихватские звуки лезгинки, способные поднять на ноги любого кавказца, даже мертвого, гости, отставив бокалы с ромом местного разлива, вскочили и, неистово хлопая, встали в круг.
На середину импровизированной сцены вылетел, блистая взорами, внук соседки Лауры, и принялся выделывать длинными стройными ногами такие антраша, что достославным балерунам больших и малых академических театров оставалось только нервно курить в сторонке свернутые дрожащими руками козьи ножки.
Карп смотрел на эти припрыжки, каблуки, усы, и в тусклых рыбьих глазах потомственного столичного жителя и рафинированного интеллигента явственно читался классический приговор танцорам: и дикий же народ эти дети гор…
Получив консульский патент, Карп один улетел на край света. Валентина должна была закрыть сессию, но в перерывах между экзаменами и зачетами с воодушевлением закупала легкие платья из ситца, которые, несомненно, будут носиться там, где под знойными небесами знойные красотки в бикини, томно прикладываясь к мартини, внимают сладострастным стонам гитары или, бешено вращая смуглыми бедрами, танцуют мамбу, румбу и прочие ча-ча-ча. Однако рука судьбы вела ее иным путем.
На приеме в честь утверждения консульского состава случился неприятный казус – заслуженный посланник второго класса явился на дипломатический раут в состоянии крайнего похмельного недомогания.
Накануне, дабы случайные собутыльники в баре не сочли его слабаком и презренным подонком, Карп поднялся с ними до горних высот непустячной бездны. Это балансирование на грани объяснялось данью уважения ментальному собрату, чья хрустально чистая душа неизменно рвалась в обетованные Петушки, в то время как бренное тело самозабвенно упивалось комсомольскими слезами, сатанея от непрерывного и надрывного пития.
О, эта утренняя ноша в сердце!
Ощущая каждой клеточкой страждущего организма иссушающую жажду, задыхаясь, Карп рванул душившую его бабочку и, не удержав измученное тело в равновесии, в полном соответствии с законом всемирного тяготения, грузно грохнулся на паркет – это позорное падение стало началом упадка в отношениях со страной пребывания и заката его собственной карьеры. Задев на лету тонконогую хрупкую консоль, неумеренный потребитель алкоголя уронил и разбил вдребезги бесценную вазу эпохи правления последнего властителя майя Чан Кавиля ll, ниже плинтуса уронив при этом престиж своей страны.
Хотя встреча на высшем уровне прошла не на уровне, скандал удалось замять, тем более что представительная технико-технологическая экспертиза убедительно доказала: керамическое изделие не имело никакого отношения к артефактам, как утверждала пострадавшая сторона, а было произведено на местной фабрике, в артели имени Энрике Диаса, и продавалось по цене 37 реалов 46 сентаво. Но этот утешительный факт Карпу уже не помог – он перешел Рубикон и зарубил на корню свое будущее на дипломатическом поприще. Патрон из МИДа, до сих пор закрывавший глаза на пагубное увлечение старого приятеля и однокурсника, вызвал его на ковер и, не особо заморачиваясь подбором дипломатичных формулировок, послал посланника домой, навсегда исключив друга из избранного круга.
Совместное негулянье под соблазнительной бразильской луной и тропическое солнце не у них над головами Карп переживал тяжело – в родных пенатах он запил. Катастрофически неплатежеспособный, загнанный в угол, он загнал сначала практически весь свой элегантный гардероб, потом принялся таскать вещи из дома. Карп украл кораллы Валентины и даже обручальное кольцо с розовой жемчужиной, всего лишь полгода назад надетое на палец счастливой суженой в качестве нетленного символа любви и верности.
Уходя якобы на поиски работы, он непременно оказывался именно в тех местах, где ветреной Гебе взбредало в голову пролить с неба громокипящий кубок с низкосортным алкоголем, – то ли на Олимпе не держали шабли, то ли придерживали божественный нектар для нужд местных небожителей, не чуждых земных радостей.
В промежутках между работой в двух институтах Валентина преимущественно занималась тем, что разыскивала Карпа по жутким забегаловкам.
Однажды на ее глазах два дюжих официанта, нежно держа мертвецки пьяного мужа за руки и за ноги, неспешно выволокли его на крыльцо пивнушки, расположенной в полуподвальном помещении какого-то барака. Хорошенько раскачав безжизненно провисшее тело, несмотря на его габариты, они придали ему необходимый размах и инерцию и незамедлительно предали мерзлой земле (опустив церемонию гражданской панихиды). На смену скрывшимся за железной дверью охранникам из учреждения общественного питания выскочили двое скользких личностей и принялись остервенело бить и пинать в четыре руки и четыре ноги Карпа, упрямо бормотавшего что-то про категорический императив Канта.
 Общеизвестный, но мало изученный наукой факт: на определенном этапе вполне мирной светской беседы о методах контроля дебиторской задолженности или преимуществах квадратно-гнездового способа посадки картофеля, одного из собутыльников начинают одолевать смутные сомнения в достаточно почтительном отношении ближайшего соседа к его точке зрения на предмет обсуждения. Следствием этого не всегда обоснованного предположения может стать все что угодно, начиная с невинного членовредительства и заканчивая смертоубийством.
Общеизвестный, но мало изученный наукой факт: на определенном этапе вполне мирной светской беседы о методах контроля дебиторской задолженности или преимуществах квадратно-гнездового способа посадки картофеля, одного из собутыльников начинают одолевать смутные сомнения в достаточно почтительном отношении ближайшего соседа к его точке зрения на предмет обсуждения. Следствием этого не всегда обоснованного предположения может стать все что угодно, начиная с невинного членовредительства и заканчивая смертоубийством.
Но в случае с Карпом дело было явно в чем-то другом, более глубинном, чем производственные прения, поэтому Валентина смогла остановить жестокую ледовую экзекуцию только обещанием немедленной выплаты внушительной контрибуции. Счастливым образом нарыв по сотенной купюре на рыло, скользкие личности скользнули обратно за железную дверь для продолжения прерванного банкета.
После прекращения антигуманного акта Карп с усилием поднял окровавленную голову, пошарил вокруг себя в поисках бесследно исчезнувших очков и, требовательно икнув, пробормотал разбитыми губами:
— Мне бутылочку шабли, будьте любезны…
Валентина оставила без внимания скромные притязания Карпа, соображая, как доставить нетранспортабельного мужа домой. Мобильник сдох с прощальным вздохом, как в плохих голливудских фильмах, когда жертва, с замиранием сердца слыша за собой учащенное дыхание маньяка, чувствует, как бездна разверзлась и шумит под ногами, и надо бы безотлагательно набрать спасительный номер спасательной службы «911».
Но там, в таинственных глубинах бесконечного космоса, невидимая сквозь багровое зарево неоновых огней большого города, видимо, встала и засияла в созвездии Персея переменная и переменчивая звезда Алголь – покровительница алкоголиков. Сразу же, как по волшебству, возле злачного места остановилось такси, и возница, мрачный, как античный ритуальный агент Харон, направил алчущие взоры на мерзнущую без всякой пользы женщину.
Однако пускать Карпа в машину он отказался, велев Валентине сначала привести своего бомжа в божеский вид. Когда она всеми доступными средствами спешно удалила с его слегка помятого лица и давно потерявшего пижонский вид черного пальто наиболее явные последствия недавней дружеской беседы, водитель такси придирчиво оглядел святое семейство:
— А его не будет в машине рвать?
— А он не будет буянить?
В конце концов бесчувственный доселе Карп, непринужденно переложив свой вес на хрупкие плечи подпиравшей его Валентины, поднял голову:
— Мы даже танцевать не будем голые при… ик… луне!
Презрительно сплюнув, автомедон наконец пустил страждущих в теплый салон старенького жигуленка ВАЗ-2101 – «Копейки», первого детища отечественного автопрома – и дал по газам. Шестьдесят крепконогих задиристых лошадей радостно заржали и, задрожав, рванули с места так стремительно, что увенчанные двойными газоразрядными лампами фонарные столбы, как забор, замелькали в глазах изумленных пассажиров, которые в ужасе вжались в грязные, изрезанные сиденья.
Слушая таксиста, с увлечением раскрывавшего пути выхода из очередного кризиса с помощью разрыва всех отношений с американской валютой, Карп отключился, но сразу очнулся и, подслеповато щурясь от пролетающих мимо ближних и дальних огней, ткнул в его дерматиновую спину:
— Любезный, мне тальятелле с креветками… и устриц… и горячий шоколад…
Прервав на самом интересном месте декларацию о независимости от доллара, тот оглянулся и лязгнул железными зубами:
— Щас! Будет тебе кофа с какавой!
Валентина в сердцах толкнула Карпа:
— Да замолчи уже! Ты что, и в той забегаловке требовал устриц? Да ты спятил!
— Что ты понимаешь в этик… ик… в этикете, провинциалка! – икнув, промямлил он.
Карп некоторое время тупо изучал весьма нефотогеничный фейс таксиста в зеркало заднего вида, старательно отводя глаза от вездесущего взгляда создателя всего сущего, укоризненно смотревшего на него с бесчисленных икон, коими практически полностью было залеплено ветровое стекло, потом громким шепотом сказал жене:
— Я узнал его! Это Чик… ик… Чикотило! Мы попали! Валя, валим отсюда!
— Да сам ты Чикотило! – оглянулся водила и, панически вывернув руль, еле избежал лобового столкновения с летевшей навстречу сияющей махиной, громыхавшей на всю улицу звуками лезгинки. Смахнув со лба капли нервного пота, таксист сделал вынужденную остановку и с чувством, с толком, с расстановкой отправил неизвестного, но явно не местного рулевого встречной «Тойоты» по известному адресу к такой-то матери.
— К Богоматери?! – несмотря на въевшиеся в душу советские атеистические клише, Карп в мистическом ужасе прикрыл ладошками свои рыбьи глаза и в изнеможении сполз на усеянный окурками пол неубиваемой «Копейки».
6.
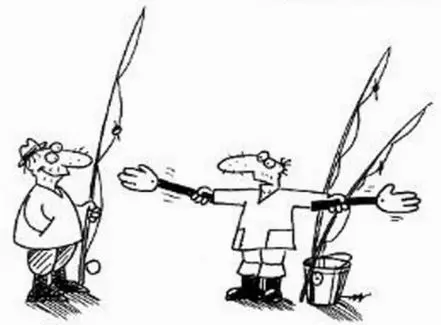 Валентина предала немедленному забвению латиноамериканский период своей жизни и, окинув удовлетворенным взором совокупное великолепие тщательно вымытой и вытертой посуды, стеклянных дверец кухонного гарнитура и радующей глаз виндзорской плитки в веселенький синий цветочек, взяла смартфон и села на любимый диван цвета Бискайского залива перед жидкоплазменным экраном «Панасоника».
Валентина предала немедленному забвению латиноамериканский период своей жизни и, окинув удовлетворенным взором совокупное великолепие тщательно вымытой и вытертой посуды, стеклянных дверец кухонного гарнитура и радующей глаз виндзорской плитки в веселенький синий цветочек, взяла смартфон и села на любимый диван цвета Бискайского залива перед жидкоплазменным экраном «Панасоника».
На самом главном канале отцы отечества (которых мы должны принять за образцы) с узнаваемыми лицами, заметно изможденными неусыпным бдением о судьбе страны, активно радели о благосостоянии вверенного им народа. На этот раз, выказывая перед настырными журналистами крайнюю степень озабоченности, они выискивали способ наполнения казны, безжалостно опустошаемой ненасытными подданными. Подтверждая справедливость замечания самого бравого солдата всех времен и народов о некоем сходстве высшего законодательного органа с сумасшедшим домом, депутаты, с усилием вытаскивая из дизайнерских сидений необъятные седалища, поочередно взбирались на трибуну и несли все, что взбредет в голову.
Наконец, слуги народа, рассовавшие, как свора воров, по офшорам львиную долю национального дохода, придумали обложить данью восполняемые ресурсы природы, дабы ее богатые дары не пропадали даром в лукавых устах прожорливых простолюдинов. Поднаторевшие в трудах державства государевы люди на радостях выпустили злого духа в кожаную обивку кресел, как бояре из самого известного творения красного графа, – задолго до появления материалистического мировоззрения они так же удачно вышли из патовой ситуации, благодаря новому налогу на крестьянские лапти.
Подготовив законопроект и в едином порыве проголосовав за него, парламентарии рванули вон из зала заседаний, опрокидывая мебель и затаптывая зазевавшихся коллег, будто спасаясь от внезапного набега извечных врагов – печенегов.
А потом на личных суперджетах журавлиными клиньями разлетелись по другим государственным образованиям, гораздо более комфортным для жизни, чем их зябкая и прозябающая родина. На берегах омываемого теплыми течениями Туманного Альбиона или на средиземноморских курортах за высокими заборами прячутся их скромные трех-, четырехэтажные особнячки с обязательным свечным заводиком под боком. Там, в неизбывной тоске по родным березкам и проводят слуги народные большую часть жизни с женами и детишками, преданно разделяющими с ними бремя разлуки с Отечеством, дым которого отсюда, издалека, так сладок и приятен…
Валентина приглушила звук телевизора и вышла на балкон. На бельевой веревке, поскрипывая на ветру, качались насквозь промерзшие, заиндевевшие пижамы, майки и прочие необходимые предметы женского туалета, постукивая друг об дружку, будто их вырезали на токарном станке из цельного куска оцинкованного листового железа.
Отдирая от проволоки вещи, она в какой-то момент выронила свой любимый белокипенный кружевной бюстгальтер – он неожиданно выпал из окоченевших рук, как скипетр и держава, выскользнувшие из царственной длани скоропостижно почившего юного императора – тезки и внука Петра Великого. Валентина задумчиво уставилась на две округлые возвышенности, намекавшие на некоторую корпулентность хозяйки и напоминавшие своими очертаниями высочайшую вершину европейского континента, расположенную как раз на ее милой сердцу малой родине.
Можно, конечно, выйти из дома и, обойдя кругом весь этот растянутый на пять подъездов человеческий муравейник, подобрать интимный предмет туалета. Но Валентине очень не хотелось опять напяливать на себя кучу одежды и выходить на трескучий мороз из уютной квартиры, на совесть отапливаемой новой управляющей компанией после скандала с начальником предыдущей фирмы, который сбежал со всей наличностью и припеваючи живет теперь в далекой стране с теплым, не требующим обогрева климатом.
Валентина со скрежетом вывалила в таз потрескивающее с мороза белье и вернулась на балкон. Порывшись в старом шкафу, где на всякий случай хранилась всякая бесполезная рухлядь, она достала одну из любезно оставленных Карпом рыболовных снастей.
Бывший дипломат по совместительству был еще и страстным поклонником лишенного всякого смысла промысла и целыми часами, будто погруженный в нирвану новоявленный Будда, мог сидеть на берегу любой проточной лужи, которая точно не располагала никем иным, кроме квакушек и простейших микроорганизмов, не говоря уже о более весомых представителях подводной фауны.
Валентина с некоторым пренебрежением осмотрела рыболовное снаряжение бывшего мужа и, мысленно прикинув расстояние до призывно белеющих на газоне округлостей, неуклюже размахнулась и закинула удочку. Со свистом рассекая плотный морозный воздух, леска пролетела по неожиданной траектории, и заостренный крючок, качнувшись назад, как кобра перед смертоносным броском, с хрустом впился в потрескавшийся ствол одного из коченевших на придомовой территории деревьев.
Чувствуя небывалый охотничий азарт, Валентина начала осторожно дергать леску, чтобы не оборвать ее, и после множества неудачных попыток извлекла крючок из ствола вместе с кусочком обледенелой коры. Заново оценив ситуацию и сделав необходимую рекогносцировку, она стряхнула с себя стеснявшую движения куртку и опять закинула удочку.
На этот раз капризная удача улыбнулась ей: зацепив лифчик за лямку, она ловко, как заправский рыболов, подсекла ее, дабы добыча не сорвалась с крючка, и точными, выверенными движениями принялась подтягивать к себе леску. Залитый ярким светом из окон первого этажа бюстгальтер неохотно прополз по едва припорошенной снежком траве, но когда Валентина с торжествующим воплем оторвала его от земли, вожделенный предмет туалета, зацепившись за торчащий козырек нижнего балкона, упал обратно на газон, будто раздобревший на городских хлебах толстый голубь, сбитый из травмата скучающим охранником. В третий раз забросила Валентина удочку – хищно поблескивая в темноте заостренным кончиком, крючок, свистя, совершил несколько опасных кругообразных движений над ее головой и стремительно понесся вниз навстречу неизвестности.
Спустя мгновение в сонной тишине спального района раздался такой душераздирающий крик, будто под балконом ничем не примечательной хрущевки собрались, завывая от непреодолимой потребности в горячей человеческой крови, полчища чудовищ – вампиров, оборотней и прочей кинематографической нечисти. Обеими руками вцепившись в холодное удилище, Валентина застыла на месте, волосы под платком зашевелились и встали дыбом, словно ядовитые змеи Медузы Горгоны, взбудораженные появлением очередного настырного древнегреческого героя.
С нижнего балкона показалась небритая физиономия сантехника Василия из шестьдесят шестой квартиры, и не чуждый алкогольных паров хриплый голос немедленно подверг бичующей критике добродетель женской части ее родни и мужественность мужской. Кроме непосредственных виновников появления Валентины на свет, гвозди сантехникова гнева поочередно припечатали к доске позора бабушек и дедушек по отцовской и материнской линии. Когда Василий сладострастно принялся за родственников третьей ступени – согласно классификации Гражданского кодекса в части очередности наследования – Валентина выпустила из рук удилище и опрометью кинулась в квартиру.
7.
 Крики скандального сантехника перестали биться в барабанные перепонки, и Валентина, с трудом приведя в соответствие с медицинскими нормами давление, опасно подскочившее от плохо совместимой с ее возрастом эмоциональной встряски, прилегла на диван цвета Бискайского залива. Неожиданное проявление у Василия непримиримой, бурной неприязни ко всей ее ближней и дальней родне подтверждало худшие опасения: вне всякого сомнения, во время охоты на предмет туалета она, сама того не подозревая, покусилась на его здоровье и жизнь.
Крики скандального сантехника перестали биться в барабанные перепонки, и Валентина, с трудом приведя в соответствие с медицинскими нормами давление, опасно подскочившее от плохо совместимой с ее возрастом эмоциональной встряски, прилегла на диван цвета Бискайского залива. Неожиданное проявление у Василия непримиримой, бурной неприязни ко всей ее ближней и дальней родне подтверждало худшие опасения: вне всякого сомнения, во время охоты на предмет туалета она, сама того не подозревая, покусилась на его здоровье и жизнь.
Тщетно пытаясь отвлечься от неприятных мыслей, Валентина обратила взоры на экран: там с видом низложенного революционными массами короля, ожидающего скорой казни на гильотине, сидел, потерянно слушая длинную повесть о своих давних прегрешениях, знаменитый в прошлом актер, прекрасный семьянин и красавец-мужчина, в поисках адреналина и длинного рубля забредший на одно из безобразных, отвязных ток-шоу.
Последствия этих грехов в виде двух неопрятных амбалов находились в студии, и время от времени, после сигнала помощника режиссера, по их небритым толстым щекам неудержимо катились крупные крокодиловы слезы. Страдающие разного рода дисфункциями, вызванными чрезмерными жировыми отложениями (необъятная талия – следствие плохого питания), бедные сиротки зорко следили за дискуссией и, размахивая липовыми бумажками с результатами тестов ДНК, требовали недоданной им родительской ласки и благословения вкупе с родительским же благосостоянием.
Долгий требовательный звонок, гулко отозвавшийся в голове колокольным перезвоном, заставил Валентину подняться с горки разноцветных подушек. Стараясь не шаркать турецкими туфлями, она тихо подошла к двери и приникла к отверстию глазка: с той стороны на нее уставился деформированный выпукло — вогнутыми линзами увеличенный зрачок. Любопытствующее око наконец оторвалось от глазка, и в пределах видимости затаившей дыхание Валентины оказался тот самый сантехник Василий с вытянутым вперед туго забинтованным пальцем – основательность повязки служила доказательством серьезности нанесенного ею увечья.
— Я требую компенсации! — заорал он за дверью. — Я человек, который работающий, и мне полагается компенсация за увечье и упущенную прибыль!
Поскольку Валентина стоически молчала, он забарабанил в дверь:
— Я знаю, что вы там! А ну открывайте!
На лестничной клетке послышались любопытные голоса выскочивших на шум соседей, и Валентина, с трудом надев на себя маску ледяного спокойствия, открыла дверь:
— В чем дело, Василий…эээ… не знаю, уважаемый, как вас по батюшке?
Уважаемый Василий, явно не лишенный недюжинных артистических способностей, начал, сопровождая свой рассказ чрезмерной жестикуляцией и эффектными театральными паузами:
— Вышел я, значит на балкон покурить… Мне Машка, жена моя, не разрешает курить в квартире… Только курево достал, значит, не успел даже прикурить, и вдруг эта дамочка, решившая половить рыбку, самым подлым образом насаживает мой палец на крючок!
— Простите меня, – опустив глаза, прошептала Валентина, – я не хотела…
— Нет, – с искренним недоумением воззрился на нее изувеченный сантехник, – но как можно ловить рыбу без наживки?!
— Это невозможно, – флегматично подтвердил сосед Василий Иваныч, кадровый офицер в отставке, – да еще в феврале месяце. Зачем же вам понадобилась удочка?
— Можно подумать, что в подходящее время и с подходящей наживкой с балкона многоэтажного дома можно ловить рыбу, – фыркнула, высунув в дверь голову в дореволюционных папильотках, жена Василия Ивановича Инна Ильинична, учительница начальных классов.
Валентина не питала иллюзий по поводу своей репутации среди соседей, – она знала, что ее считают какой-то чудаковатой, странной, провинциальной и жеманной, и не последнюю роль в таком отношении играют носки бессменного зеленого цвета, надеваемые поверх сапог во время гололеда.
Однако перспектива стать объектом связанных с нижним бельем шуток показалась ей нешуточным ударом по остаткам самолюбия и, отбросив несколько явно неправдоподобных версий, она ухватилась за спасительную мысль:
— Я убиралась и решила просто выбросить удочку…
Соседка Глафира, засидевшаяся в невестах эффектная блондинка лет под тридцать, элегантно стряхнула пепел с длинной дамской сигаретки на квадратные плиты подъезда, только что вымытые дворником – трудовым мигрантом. Взмахнув густыми наращенными ресницами, напоминавшими мех пушного зверя, прожившего короткую жизнь в довольстве и сытости, Глафира тягуче пропела, явно подражая незабываемому тембру знаменитой укротительницы прошлых лет, которая, по слухам, с легкостью приручала не только четвероногих, но и гораздо более опасных двуногих хищников:
— Валентина Адамовна, душечка, нынешние мужики не ловятся на такое допотопное орудие, на удочку попадаются только пескарики и… Карпы. Здесь нужен хотя бы пневматический гарпун, а в вашем возрасте… разве что нервно-паралитический газ…
Валентина бросила саркастический взгляд на ее накачанные, как переваренные сардельки, губы и упругое силиконовое изобилие груди под тонкой маечкой c надписью «Ich bin fantastisch».
— Глашенька, мне известно, что мужчин сейчас тянет на все ненастоящее, поддельное, думаю, это результат повсеместно распространенного искусственного вскармливания… А наличие хорошенького личика не всегда означает, что его обладатель – личность.
Не отрывая масленых глаз от Глафиры, сантехник, забыв о своем увечье, загоготал:
— С хорошеньким личиком наличие личности не обязательно…
— Я больше скажу, – ухмыльнулся Василий Иванович, – отсутствие хорошенького личика не гарантирует наличия личности…
— Умничаете? – Глафира жизнерадостно заржала, ослепив поедающих ее глазами мужчин керамическим великолепием удивительно ровных, крупных зубов, и, кокетливо изогнув статное тело, словно подающая надежды кобылка-двухлетка перед первым заездом, скрылась в своей однушке.
Эту квартиру исключительно из человеколюбивых соображений приобрел для смазливой провинциалки, убиравшей думские кулуары и дортуары, известный на всю страну человек, любвеобильный депутат Государственной Думы, давно и счастливо женатый на не менее известном члене Правительства.
— Ах, какая женщина! – простонал сантехник Василий, провожая плотоядным взглядом плотный задок Глафиры.
— Подметун… эээ…Пометун, домой! – голова в папильотках снова показалась в дверях – жена, деспотичная, не вполне нормальная женщина, по слухам даже поколачивавшая мужа, по неистребимой учительской привычке называла его исключительно по фамилии.
Василий Иваныч происходил из старинного, знатного рода, известного еще со времен Ивана IV, грозного собирателя русских земель, но все знакомые и домочадцы, включая зятя, уже десять лет жившего за счет тестя и не тужившего по этому поводу, за глаза называли его Подметун – с первого дня семейной жизни он безропотно находился в собственном доме на положении обслуживающего персонала. Дабы не получить взбучку, бывший военный, настоящий полковник, в былые времена не отступавший ни перед какими опасностями, трусливо хрюкнув, задом отступил в свою квартиру.
В кармане сантехника заиграла жизнеутверждающая весенняя мелодия Вивальди – выхватив трубку, он подобострастно закивал:
— Иду, Машуль, иду!
— А компенсация? – ехидно спросила Валентина вслед устремившемуся вниз сантехнику.
— Я вернусь! – оглянувшись, многозначительно сказал Василий, невольно иль по доброй воле повторив хвастливую фразу весьма переменчивого кибернетического организма из нашумевшего фильма, с большим успехом гулявшего когда-то по экранам всего мира.
Сантехник с тяжелым топотом помчался по ступеням, и гулкое эхо от его подкованных ботинок загрохотало вниз, как весной горная река, непомерно вздувшаяся после продолжительных гроз.
Любовно поправив горку подушек, Валентина вытянулась на диване, но не успела она прикрыть глаза, как звонок задребезжал снова. «Уже вернулся!» – неприятно пораженная оперативностью сантехника, она открыла дверь: перед ней стоял маленький, щуплый мужчина.
Разрез живых темных глаз и особенное выражение вековечного терпения на смуглом лице с мелкими чертами выдавали в нем уроженца среднеазиатского региона, который последние три десятилетия охотно делился своими богатыми человеческими ресурсами с одряхлевшим в демографическом отношении соседом. Окинув одобрительным взглядом пышные, без всякого намека на силиконовое вмешательство, формы Валентины под салатовым китайским халатиком с огнедышащими драконами, он почему-то бурно задышал и, потупившись, протянул ей черный пакет.
— Что это? – отпрянула она, собираясь захлопнуть дверь, но гость проявил настойчивость и, сунув ей в руки сверток, сказал:
— Это васе.
— Здесь нет никакого Васи! Он уже ушел!
— Нет, не Васе, а васе, васе! – загадочно сказал мужчина и, засунув руки в карманы кургузой кожаной куртки, удалился.
С опаской заглянув в пакет, Валентина обнаружила свой недавно утерянный, как ей казалось, навсегда бюстгальтер, любовно свернутый чьими-то заботливыми руками. Теперь нетрудно было догадаться, что «васе», ошибочно принятое ею за мужское имя, – это притяжательное местоимение «ваше» в устах азиата, чей голосовой аппарат в принципе не был приспособлен для воспроизводства причудливых небно-зубных звуков великого и могучего. Тайной для Валентины оставалось лишь то, каким образом незнакомец определил принадлежность столь интимного предмета туалета. Недоумевая, она бросила уже оттаявшее кружевное содержимое пакета в стиралку и присела на диван, рассеянно прислушиваясь к бормотанию телевизора.
На экране политики разных мастей, игнорируя устроенный ими же конец света в собственной стране, с фанатизмом отверженных обсуждали воображаемые невзгоды соседнего народа, неосмотрительно выбравшего другой вектор развития и оторвавшегося наконец от материнской титьки старшего брата….
Когда разбуженный в неурочный час звонок, захлебываясь и хрипя от негодования, опять заверещал, задремавшая Валентина вскочила, забыв об опасности высокого давления для своих изношенных, истончившихся сосудов, и, намереваясь твердой рукой перекрыть поток незваных посетителей, рывком открыла дверь.
Давешний азиатский гость, видимо решивший разыграть второй дубль ознакомительной короткометражки, в добродушной улыбке раздвинул синюшные, почти черные губы и протянул ей проклятую удочку трижды проклятого Карпа, так некстати оброненную ею сегодня вечером, и снова сказал:
— Это васе.
Валентина затряслась от неконтролируемого нервного смеха и, вцепившись в шероховатое дерево дверного косяка, с трудом удержала бившееся в конвульсиях тело в приличествующем гомо сапиенсу вертикальном положении. Бросив окаянную удочку в угол, маленький мужчина в джентльменском порыве кинулся к женщине и, схватив ее за талию, крепко прижался к пышному телу, положив черную как смоль голову на большую грудь, которая ходила ходуном наподобие печально знаменитого исландского вулкана с непроизносимым названием перед очередным разрушительным извержением. Не видя никакого противодействия со стороны огорошенной от неожиданности Валентины, он поднял к ней смуглое лицо и, мило оскалив редкие зубы, сказал:
— Ты мне оцень нравиця…
За Глафириной дверью раздалось красноречивое шуршание, и Валентина, очнувшись, решительно стряхнула с себя незадачливого кавалера, как неудачно спикировавшего с потолка черного паучка, и, захлопнув перед его носом дверь, упала на диван и зашлась от гомерического хохота. Она уже слышала такое грамматически опрометчивое признание – слово в слово – в те незабвенные времена, когда сладкоголосая птица юности беззаботно щебетала в серебристой листве тополей, вольготно раскинувших ветви над ее родительским домом…
8.
Школьный драмкружок ставил пьесу на военную тематику, и бесспорный артистический талант Валентины предопределил ее роль в этой постановке – она играла бесстрашную партизанку, противостоявшую оккупантам. Схваченная по доносу местного предателя, отвергнутого ею когда-то и до сих пор строившего ей козни соседа, она томилась в мрачных застенках нацистской полиции, ожидая неминуемой казни.
На допросы ее водил охранник-гестаповец – эта проходная эпизодическая роль без всяких кастингов досталась второгоднику из параллельного 10 «Б». Верзила с высокими арийскими скулами, холодными голубыми глазами и совершенно белыми, выжженными солнцем волосами (следствие летней подработки в качестве помощника местного пастуха) как нельзя лучше подходил для этой роли.
Во время не беспристрастных допросов, смелая партизанка отказывалась от радужных перспектив многообещающего сотрудничества с рейхом, гордо вскинув голову перед толстым, рыхлым штурмбанфюрером, которого играла пухлая пионервожатая, во время редких перерывов бегавшая домой кормить грудного ребенка. Тогда, плотоядно улыбаясь, пионервожатая в тесном аляповатом мундире, пошитом матерью одного из актеров и лишь отдаленно напоминавшем немецкую форму времен Третьего рейха, вызывала своего охранника-живодера – вылитого гестаповца, на котором, в отличие от нее, форменная одежда сидела как влитая.
Он входил и, вскинув в нацистском приветствии широкую, как угольная лопата, ладонь, раскладывал на столе свой немудреный пыточный арсенал – позаимствованные у трудовика столярные инструменты. И хотя никакой кровной связи между жестоким арийцем и выросшим в горном краю подростком не должно было быть в принципе, у девушки по спине пробегал непрошеный холодок, когда, закатав рукава, он останавливал на ней свой неподвижный взгляд не сценического, а самого настоящего безжалостного убийцы.
По захватывающему сценарию пьесы, после жутких пыток героине каким-то непостижимым образом удавалось выхватить из кобуры толстого офицера громоздкий черный пистолет неопознанной системы, искусно выточенный из дерева и выкрашенный масляной краской одноклассником Артуром, неровно дышавшим к Валентине. Ликвидировав штурмбанфюрера, партизанка с мстительным удовольствием выпускала в своего мучителя-костолома всю обойму. Схватившись за сердце, охранник картинно падал на крашеные половицы сцены сельского Дома культуры, дергаясь, словно подвыпивший электрик, по ошибке ухватившийся голыми руками за неизолированные токопроводящие части. Партизанка же, заткнув за пояс пистолет, благополучно сбегала в родной отряд.
Спектакль, приуроченный к очередной круглой дате партии, чья руководящая и направляющая роль во всех народных свершениях еще не подвергалась никакому сомнению, имел у селян оглушительный успех, хотя и не обошлось без досадных накладок. В финале, устранив без сучка и задоринки штурмбанфюрера, перекошенного от неподдельной боли (Валентина случайно двинула вожатую по носу громоздким оружием), она выпустила обойму в охранника и сбежала под одобрительный свист публики.
Однако, не заметив, что фатальные для него выстрелы отгремели и партизанки уже нет на сцене, поверженный нацист еще долго с упоением дергался на полу, будто в его изрешеченное тело ежесекундно впивались десятки смертоносных пуль. Пыльный полог бордового бархатного занавеса пришел в движение и суетливо, рывками, закрылся под дружный хохот зрителей.
После шумного успеха первой постановки школьный драмкружок замахнулся на Вильяма нашего Шекспира, и юный актер, намертво прикипевший к театру бесхитростным сердцем, бессменно участвовал во всех спектаклях, с блеском исполняя роли второго плана. Но свою сценическую погубительницу он не забыл.
Прелестным солнечным утром весеннего месяца апреля на стадионе, расположенном на околице села, начался обычный урок начальной военной подготовки. Занятие вел капитан в отставке Вазген Левонович, военрук, физрук и завуч-организатор в одном лице, которого школьные острословы прозвали Фосгеном, поскольку он частенько обнаруживал свойственное этому сильнодействующему отравляющему веществу изощренное коварство, маскируемое вполне мирным запахом прелого сена.
Фосген свято верил в то, что выстроенная на протяжении веков система народного образования предназначена лишь для того, чтобы подготовить подрастающее поколение к защите от неотвратимого ядерного апокалипсиса, и с фанатизмом вечного прапорщика вдалбливал в легкомысленные головы учеников азы гражданской обороны.
В то утро был небесный свод так чист, что прилежный взор мог бы следить если и не ангела полет, то уж точно реактивные самолеты с тающими, как призрачные надежды, инверсионными следами. После ночного ливня поле спортивного сооружения, окруженное стремительно наступающей вражеской армией буйно зеленеющих сорняков, темнело проплешинами голой земли с незатейливо разбросанными там и сям лужицами. На беговой дорожке, усыпанной пушистыми желтенькими зонтиками одуванчиков, стояла мосластая пегая корова и, задумчиво глядя на свое отражение в луже, подернутой волнистой рябью, жевала жвачку, флегматично двигая похожими на старый ботинок замшевыми губами.
— Опять скоты на стадионе! – с явственным южнокавказским акцентом загрохотал Фосген и, придирчиво оглядев свой ненадежный контингент, скомандовал:
— Махов, Коков, очистить полигон!
Двое верзил-правофланговых сорвались с места и с непринужденной грацией человекоподобных приматов принялись изображать матадоров, выделывая длинными голенастыми ногами незамысловатые па и пиная корову. Внезапно безобидное по умолчанию травоядное взревело дурным голосом и, склонив бодливые рога, бросилось на своих обидчиков, выбрасывая из-под парнокопытных конечностей комья жирного чернозема.
 Долговязые подростки рванули с места в карьер и, обгоняя друг друга, как скаковые лошади, помчались с такой скоростью, что без всяких усилий через всю европейскую и азиатскую части страны могли добежать до канадской границы, но ввиду отсутствия сухопутной демаркации с этим государством, остановились на другом конце стадиона и, взлетев на перекладину футбольных ворот, оказались вне зоны доступа.
Долговязые подростки рванули с места в карьер и, обгоняя друг друга, как скаковые лошади, помчались с такой скоростью, что без всяких усилий через всю европейскую и азиатскую части страны могли добежать до канадской границы, но ввиду отсутствия сухопутной демаркации с этим государством, остановились на другом конце стадиона и, взлетев на перекладину футбольных ворот, оказались вне зоны доступа.
Взбешенное животное, резко развернувшись, помчалось в сторону остальных потенциальных мишеней, которые, забыв про занятия, спешно проводили эвакуационные мероприятия. Когда дети в одинаковых застиранных трикотажных трениках с пронзительными воплями брызнули в разные стороны, словно кузнечики-акселераты, корова, остановившись, остепенилась так же внезапно, как и взбеленилась. Затем, покачивая полным тугим выменем с набрякшими голубоватыми жилами, напоминавшими причудливые извивы рек на контурной карте, она степенно прошла мимо Фосгена, гордо подняв крутолобую голову, как священная индийская корова, ради которой сам бог Вишну, всепроникающий и всеобъемлющий, не погнушался сойти на грешную землю, дабы поиграть ей на сладкоголосой флейте.
Проводив недисциплинированное животное испепеляющим взглядом, Фосген нетерпеливо скомандовал:
— Строиться!
Еле отойдя от потрясения, девушки, просто приятные и приятные во всех отношениях, и прыщавые юнцы, застрявшие на негативной фазе пубертатного криза, построились, готовые к ратным подвигам, у кромки футбольного поля, перебрасываясь нервными смешками и поправляя висевшие через плечо тяжелые сумки с противогазами системы ГП – 4у.
Команда «Вспышка слева!» застала врасплох половину класса, легкомысленно подвергшую себя разрушительному воздействию взрывной волны, лучевой болезни и прочим не менее серьезным последствиям распада радиоактивных веществ.
Праведный гнев Фосгена, который в тротиловом эквиваленте соответствовал бы поражающей силе первых атомных бомб, подстегнул его беспечных подопечных. Следующая «вспышка», коварно появившаяся с неожиданной правой стороны, повергла их ниц – класс в полном составе послушно рухнул на раскисшее поле, уткнув розовощекие юные лица в испещренную дождевыми червями грязь, спрятав под себя кисти рук, ногами в сторону взрыва, как того требуют строгие инструкции по выживанию в условиях ядерного катаклизма.
Довольный военрук окинул их орлиным взором и, тщательно протерев красным клетчатым платком сначала вспотевшую лысину, потом околыш форменной фуражки, подал команду: «Смирно!»
Не успели дети подняться и оглядеться, дабы оценить масштабы понесенного ущерба, как Фосген громогласно возвестил: «Газы!». Путаясь в тесемках противогазов, они кое-как натянули на грязные, липкие лица маски с гибкими гофрированными хоботами. Заложив руки за спину, Фосген начал обход своего потрепанного войска. Останавливаясь перед каждым солдатом, как генерал, принимающий парад у мавзолея классика марксизма-ленинизма, он бросал в лицо не очень расторопным из них отрывистые фразы:
— Долов, ожог 4 стэпени!
— Багова, лучевая болезнь 3 стэпени!
— Коков, проникающая радиация с лэтальным исходом!
Когда подошел черед Валентины, Фосген театрально воздел руки к небесам и воскликнул:
— Берова, горе ты мое! Зачем ты стояла, как пень, и рассматривала ядэрный гриб?! Все, Берова, конец! Твои прэкрасные карие глаза вытекли! Даже нэ знаю, как теперь будешь строить глазки одноклассникам?
Одноклассники же, многие из которых при взгляде на пышные стати Валентины мечтали стать той майкой, что обнимает ее упругую грудь, стиснув зубы, как коммунисты на допросе, молчали. Несколько девочек, недолюбливавших Валентину по формальной причине, тоже связанной с ее формами, отметились сдержанным хихиканьем, одна лишь соседка по парте Светка, неисправимая ябеда и зубрилка, угодливо заглядывая в глаза отставному капитану, засмеялась его фельдфебельской шутке.
Фосген по-отечески улыбнулся своей любимице, заслужившей его расположение тем, что раз в начале урока то ли из далеко идущих практических соображений, то ли по причине полного отсутствия представлений о военной иерархии, гаркнула в ответ на приветствие капитана, перекрывая ленивый хор одноклассников: «Здравия желаю, товарищ майор!»
Валентина знала, что неотвратимые поражающие факторы ядерного взрыва не знают жалости, но замешкалась, разматывая скомканные тесемки самого беззащитного средства защиты от отравляющих веществ, и сейчас, потупившись, молчала: препираться с Фосгеном – это было примерно то же самое, что дискутировать с несговорчивым творением оружейника Калашникова.
Подтвердив ее худшие опасения, Фосген плотоядно улыбнулся, показав ряд прокуренных до желтизны зубов:
— Штрафники, марш-бросок на один километр, в противогазах! Остальные – вольно!
Втаптывая в грязь головки застенчивых одуванчиков, солдаты неудачи тяжело пошлепали по беговой дорожке, мотая трубчатыми хоботами, как причудливые внеземные существа, неисповедимыми путями попавшие на одну из труднопроходимых земных троп.
Мимо пробегала веселая собачья свадьба, где, казалось, были представлены особи всех пород, размеров и мастей, существующих в этом эклектичном мире, – правда, не в привычном библейском парном формате, а взятых в единичном экземпляре.
В замешательстве остановившись у кромки поля, четвероногие друзья человека обменялись краткими критическими замечаниями по поводу существ неопознанной породы, потом, вздыбив разномастные загривки, подбадривая друг друга, побежали за причудливыми созданиями, подсознательно чувствуя исходящую от них опасность. Собаки, которые часто бывают кусачими вовсе не от собачьей жизни, а от любопытства, быстро настигли бегунов и принялись с присущим им азартом хватать зубами детские пятки, слабо защищенные резинотекстильными задниками одинаковых синих кед, чем существенно увеличили скорость спринтеров, приблизив ее к олимпийским стандартам.
Однокашники, взиравшие на представление, плавно перетекавшее в цирк с клоунами и собаками вместо коней, начали расползаться в стороны, надрываясь от хохота и хватаясь за животы, но Фосген прервал внеплановое веселье:
— Прэкратить смехи! Смирно! Марш-бросок в противогазах на один километр!
Неожиданное подкрепление в стане врага застало четвероногих врасплох – посовещавшись, нестройными рядами, поджав хвосты, они ретировались с поля боя, очевидно, для перегруппировки сил.
Наконец мученики гражданской обороны, почти ничего не видя сквозь запотевшие стекла противогазов, встали в строй, еле перетаскивая пудовые от налипшей грязи ноги. Выстроив в колонну своих подопечных, похожих на чумазых беспризорников, не ведавших гигиенических процедур с самого начала кровопролитного гражданского противостояния, бессердечный Фосген скомандовал:
— Шагом марш! Пэсню запэвай! – и бодрой походкой человека с чистой, незапятнанной совестью направился к двухэтажному зданию школы, выкрашенной белой известью.
Исчерпавшие все физические и моральные ресурсы десятиклассники кое-как, вразлад, затянули бравую строевую песню, вышедшую из-под пера многогранного Фосгена:
— Бодро, весело шагаем, целый свет мы побеждаем… – под грубым сукном его капитанского кителя билось не чуждое поэзии пылкое сердце.
— Стой! На мэсте шагом марш! – оглянулся учитель и,
обведя суровым взглядом нестройную колонну, медленно, чеканно, будто впечатывая каждое слово в гранит, сказал:
— «Бодро» нужно говорить бодрее, а «весело» – веселее!» – невольно повторив назидания одного из героев признанного шедевра советского кинематографа – начальника пионерлагеря, с позором изгнанного по причине крайнего формализма из вверенного ему детского учреждения, куда вход посторонним был категорически воспрещен.
В это время, воспользовавшись заминкой, актер-любитель, карауливший в подворотне, просвистел мимо сверстников на велосипеде «Сура», реквизированном, видимо, у кого-то из нетерпеливо топтавшейся тут же детворы. Притормозив возле еще не отошедшей от спринтерского напряжения Валентины, он, незаметно, как заправский шпион, сунул ей в руку свернутый тетрадный листик, хранивший жар его широкой ладони.
— Велик отдай! – двое мальчишек захныкали, с обеих сторон вцепившись в обмотанный синей изолентой обшарпанный руль.
Но, окрыленный чувством, запросто преодолевающим мрак, туман и вечности обман, воздыхатель Валентины взлетел в седло велосипеда, гремевшего, как допотопная подвода дедовских времен, и, оставив далеко позади негодующих хозяев двухколесного транспорта, помчался вперед, выкидывая немыслимые фортели, подвергавшие сомнению все незыблемые до сего времени физические законы. То подняв на дыбы своего железного коня, он легко и непринужденно катил на одном колесе, то отпустив руль и широко раскинув руки наподобие жреца из древнего племени солнцепоклонников, стрелой разрезал просторы, то выписывая колесами замысловатые кренделя, наклонялся так, что припадал к земле до критического предела, грозя рухнуть в придорожную грязь…
Еле дотащившись до школьных ворот, левофланговая Светка героически пала почти у самой финишной черты. Понесшие численный урон воины со светом остановились на растрескавшемся асфальте и допели песню до конца, так и не заметив потерю бойца, мастерски маскировавшегося в кустах за столярной мастерской.
Скрытая от посторонних глаз задняя глухая стенка этого неприметного здания служила неким прообразом социальных сетей – здесь школьники делились личными, любовными, эстетическими и прочими симпатиями и антипатиями. Площадка эта постоянно обновлялась, хотя уборщицы, поминая последними словами неуемных графоманов, систематически замазывали граффити известью, опасаясь гнева Фосгена, вездесущего, как шестой по счету американский военно-морской флот, мгновенно появляющийся то там, то тут – везде, где его с нетерпением ждут для восстановления поруганного конституционного порядка.
Отуманенным от слез взором Светка скользнула по стене, пестреющей надписями: «BONI — M!!!», «10 «А» – казлы!», «Рита + Артур = любовь!!!», «Ира – дура!!!», «Биологии небудет!!! Ура!!!!» Удивляясь популярности восклицательного знака в среде доморощенных блогеров, она обнаружила в самом низу местами крошившейся кирпичной кладки свежую надпись: «Светка – ябеда!!!!» – и, уткнувшись в колени, заревела еще горше.
9.
Валентина зажала в потной ладошке записку и, опасаясь ненужной огласки, подавила первый порыв – порвать и выбросить ее в придорожную канаву.
Дома она спрятала бумажку между страничками задачника по физике под редакцией А.П. Рымкевича и П.А. Рымкевич, подальше от глаз бабушки. Строгая старушка отношения в семье строила исключительно по «Домострою», хотя не имела о нем представления, и сурово пресекала любые проявления внимания к внучке. На собрания и иные обязательные мероприятия бабушка отпускала ее скрепя сердце, ведь трудно быть комсомольским богом, не находясь в гуще учебной, воспитательной и прочей работы молодежной организации. Но всякий раз она нетерпеливо ожидала у ворот припозднившуюся внучку, дабы самолично удостовериться в благонадежности ее провожатых, обычно сразу же испарявшихся после робкого приветствия, – характер у бабушки был не сахар.
Однажды, когда сияла ночь и луной был полон сад, под их серебристыми тополями раздались отрывистые переборы гитары, нещадно терзаемой неопытной рукой гостившего у соседей студента-первокурсника. Его отец, который с самого начала пришелся не ко двору председателю районного суда, ушел из семьи, и паренек во избежание стресса ввиду бракоразводного процесса родителей, уже пару недель жил у бабки и успел положить глаз на Валентину. Внучатый племянник соседки Розы самозабвенно взвыл, не подозревая о том, насколько близок момент обретения им бесценного опыта: дорога любовных грез трудна и терниста и отнюдь не усыпана розами:
— Натали, Натали, мне нужна только ты…
При первых же аккордах популярной дворовой песни подтянулись и бэк-вокалисты – по всей округе раздался разноголосый собачий вой, вполне подходивший в качестве сопровождения основной вокальной партии. Шумно вздохнув, бабушка взяла ведро и молча принесла воды из крана, стоявшего в глубине двора, возле покрытого пыльным плющом штакетника. Дотащив тяжеленную цибарку до арки крашенных зеленой краской деревянных ворот, она, злорадно ухнув, окатила ледяным дождем трубадура, тем самым перекрыв поток явной музыкальной халтуры. Поставив опустевшую емкость на выщербленный тротуар, старушка уперлась жилистыми руками в бока и активно прочистила горло, готовясь к следующему этапу воспитательных мероприятий – разговору по душам. Холодный душ вмиг отрезвил служителя муз, не ожидавшего такого горячего приема, – он вскочил, как ошпаренный, и, хлюпая мокрыми кедами, дал деру, не оценив важность этической беседы для укрепления своего психического здоровья. Впопыхах мальчишка задел бабушкин подойник и, слыша за спиной как будто грома грохотанье – тяжело-звонкое скаканье почти нового оцинкованного ведра по выбоинам потрясенного асфальтового покрытия, прибавил ходу.
После этого инцидента влюбленный, на этот раз безыскусно отказавшись от услуг высокого искусства, пошел на прямой разговор с соседкой и с редкой деликатностью признался:
— Я хотел пригласить тебя в кино, но не знаю, как быть с твоей бабкой. Она чокнутая!
— Может, мне убить бабушку лопатой? – невинно спросила Валентина конопатого юнца.
Несмотря на тонкую душевную организацию, очередной воздыхатель осознал необоснованность столь жестких мер в отношении родственницы, пусть и второй ступени, и, опасаясь эскалации конфликта со старшим поколением, речь о тайных встречах в сиянии лунных вечеров больше не заводил.
Хотя, по слухам, от болезненной страсти к самому важному из искусств он так и не излечился и быстро переключился на Лариску из параллельного 10 «Б» – не сказать, что ее глаза горели звездами, да и уста кораллами не назвать, но зато в ее семье не каралось так сурово пока что невинное внимание со стороны противоположного пола.
Потом его родителей благополучно развели, мать, любимая дочурка председателя райсуда, без особых проблем отсудила у мужа-примака все движимое и недвижимое имущество. К сыну она прикатила на сияющей новой краской огненно-красной машине – «Жигулях» диковинной еще пятой модели, и увезла его к живописным берегам Крыма, дабы залечить его душевные раны, нанесенные личными и семейными драмами.
Бабушки нигде не было видно, телевизор чутко дремал под накрахмаленной тюлевой накидкой. С первой страницы аккуратно сложенной на столе газеты «Заря коммунизма» кричал подзаголовок «Газ – это достояние советского народа!» — то был репортаж, посвященный началу газификации района, вызвавшего в окрестных селах большой ажиотаж. Чуть ниже сквозь толстые прутья тюремной решетки устало взирала неутомимый борец с империалистическим спрутом диссидентка Анджела Дэвис, мощный волосяной покров которой удивительно напоминал местный головной убор – баранью шапку.
Обшитый зеленым бархатом бабушкин футляр для очков покоился как раз на смазанном офсетной печатью портрете жертвы империализма, томящейся в американских застенках.
На стенке уютно тикали ходики в виде кошачьей мордочки, глаза которой удивленно бегали туда-сюда, будто стараясь проследить, куда же так быстро ускользают минуты и часы отсчитываемого времени.
Под часами висел аккуратно прибитый гвоздиками выцветший замшевый ковер – по нему сквозь изумрудно-розовый сосновый бор мчался, как ветер, золотисто-палевый олень, запрокинув увенчанную ветвистыми рогами красивую голову. В детстве, перед сном, Валентина часами рассматривала этот волшебный лес, ожидая, что гордый олень прямо сейчас сорвется с места и, скользнув по беленой стене легкой тенью, ускачет в неведомые дали. А лень обхватывала девочку мягкими, теплыми рукавицами, сладкий сон понемногу смежал ей веки, и все тише звучал бесцветный голос бывшей теннисистки – спортивного комментатора самой главной информационной программы, освещавшей очередной розыгрыш кубка. Она засыпала, удивляясь, кто же эта таинственная тезка соседки – Роза Гаршегубко, которой подвластны все виды спорта…
Валентина заглянула к соседям: пятилетние близнецы-сорванцы, любимцы всей улицы, первенцы соседки – младшей невестки Розы с экзотическим для здешних мест именем Лаура, совершенно неотличимые в своих одинаковых курточках с застенчивыми олимпийскими мишками, играли посреди кучи песка, с ног до головы покрытые пылью, как бедуины, пасынки пустыни.
Брутальные братья Тамерлан и Теймураз, в просторечии Тима и Тёма, непримиримые соперники с пеленок, высунув от усердия языки, строили башни из обломков красного кирпича, булыжников, мусора и прочих подручных средств, используя в качестве цементирующего материала влажный песок. Представители конкурирующих фирм занимались возведением своих объектов, ревниво наблюдая за ходом строительных работ противной стороны и даже предпринимая некие диверсионные вылазки в целях нарушения целостности чужих укреплений.
Сияя никелированными частями, в которых отражалось яркое весеннее солнце, два «весело-педа», как они называли своих железных коней, упирались друг в друга блестящими рулями-рожками, словно не поделившие стежки-дорожки упрямые бычки.
Когда Валентина окликнула детей, они подняли чумазые личики и, уставившись на нее двумя парами черных смышленых глазок, объяснили, перебивая и толкая друг друга, что, прихватив их бабушку Розу, ее бабушка Нуржан пошла к ближайшему орешнику за новой метлой.
Дремавший на солнышке дед мальчишек, гордо носивший исчерпывающее прозвище Шмурдяк, открыл бесцветные глаза, уже до краев залитые спиртосодержащей жидкостью, и засмеялся каркающим смехом:
— Куда твоя бабка денется! Скоро прилетит на своей метле!
Старик ловко прихлопнул сухими ладонями муху, летевшую мимо по своим делам без всяких признаков задних и передних мыслей, как выразился непревзойденный, второй по значимости, родитель «Улисса», и добавил:
— А моя старуха в пехоте… Какая метла выдержит ее тушу!
Близнецы со вздохом переглянулись:
— Ты опять будешь с бабушкой ругаться, деда?
— Не буду, не буду! – замахал руками известный мизантроп Шмурдяк, тоже имевший когда-то погибшего на войне брата-близнеца и нежно любивший мальчишек.
Удостоверившись в том, что бабушка не застукает ее за чтением запрещенной литературы, Валентина достала наконец любовное послание. Она с опаской развернула его, будто ожидая увидеть двухметроворостое гремучее пресмыкающееся в двадцать жал, рожденное причудливым воображением самого эпатажного поэта.
По грязному листку бумаги вкривь и вкось, словно сомлевшие после очаговой дезинсекции тараканы, расползались написанные корявым почерком слова: «Валя, дОвай с тАбой дружить. Ты мне очень нравиЦа». Под этим лаконичным, как линейная диаграмма, текстом располагалась витиеватая композиция: два довольно искусно выполненных кровоточащих сердца, насквозь пронзенных густо оперенными стрелами, факел, взметнувший ввысь жгучие языки пламени, и, к ее удивлению, несколько цветков, родовидовая принадлежность которых даже при ближайшем рассмотрении не поддавалась определению.
В самом низу записки умелый художник вывел печатными буквами: «Жду ответа, как соловей лета!!!» – и, как водится, снабдил фразу бессчетным количеством восклицательных знаков.
Так и не дождавшись ответа, соловей не отступил и, не мешкая, решил сам выяснить свои амурные перспективы – терпеливость, очевидно, не была его сильной стороной.
Шел урок физики. Гроза всей школы, великий и ужасный Череп, который одним взглядом воловьих серых глаз мог раздавить любого бездельника на месте, не оставив от него мокрого места, с пристрастием допрашивал двоечника, коренного обитателя задних парт:
— Значит, Махов, ты утверррждаешь, что сдал контрррольную? И ты не вррреешь?
. Мощные тектонические сдвиги, вызванные предельно допустимым напряжением серого вещества левого полушария, отражались на всей наружности отпетого хулигана, от которого стонала вся школа. Спутанные пергидролевые волосы цвета прошлогодней соломы стояли дыбом. Невыразительные карие глаза трусливо бегали по частоколу преимущественно темных затылков притихших однокашников. Багровые прыщи, с началом переходного периода надежно оккупировавшие лоб и щеки, налились алой кровью, готовые вот-вот взорваться, как проснувшиеся после многовековой спячки супервулканы. Он судорожно сглотнул, растерянно переступив с ноги на ногу, а потом, покрывшись липким потом, то краснея, то бледнея, проблеял:
— Неееет… Не вру…
— Я понял, – прорычал физик, – твою контрррольную перрррехватило ЦРУ – Центррральное Ррразведывательное Упррравление… Амеррриканцы давно подбиррраются к твоим оррригинальным рррешениям…
Класс покатился со смеху.
Дверь отворилась, и в проеме показались знакомые холодные голубые глаза:
— Берову можно?
— Садись, Махов, два! – отчеканил Череп и только потом всем своим стокилограммовым телом, еле державшимся на хлипком ученическом стуле, грозно повернулся к незваному гостю:
— А теперь, Кушхов, выйди и зайди, как положено!
Дверь послушно закрылась и после осторожного стука открылась вновь:
— Извините, Борис Мухамедович, меня прислал Фос… Вазген Левонович, Беровой звонят из райкома комсомола…
Учитель отвел тяжелый взгляд от мальчишки и едва заметно кивнул голым сияющим черепом Валентине.
Выскочив в гулкий коридор, где никого, кроме гонца, не было, она направилась было в учительскую, где стоял телефон, но влюбленный почитатель Шекспира, даже не помышляя о какой бы то ни было конспирации, преградил ей дорогу:
— Ты не ответила на мою записку…
Валентина вспыхнула, как красная девица из очередного фильма-сказки непревзойденного Роу, встретившая после долгих испытаний своего суженого – доброго молодца. Правда, зарделась дева не от смущения, а от досады.
Уборщица Дуся по прозвищу Дуст, лениво елозившая тряпкой возле учительской, где Фосген увлеченно дискутировал с бездельником-завхозом на предмет таинственного исчезновения угля из котельной, оставила свой наблюдательный пост и с неподдельным интересом устремилась к торчавшей посреди пустого коридора любопытной паре. Мешковина, небрежно наброшенная на длиннейшую, не меньше метра, перекладину швабры, шурша, подползала все ближе, и Валентина перешла на злой, срывающийся шепот:
— Не смей ходить за мной! Не хочу я с тобой дружить! Понятно?
Не дожидаясь, пока пройдет пыланье ярко горевших ланит, она без стука, рывком открыла дверь в класс:
— Можно?
Физик понимающе усмехнулся:
— Быстррро ты, Берррова… Надеюсь, ты не убила гонца, пррринесшего плохие вести?
10.
Шел третий год пребывания Валентины в родных пенатах. В конце лета она вместе с коллегами, по случаю ежегодного августовского совещания принарядившимися в непритязательную швейную продукцию первых советских кооперативов, добросовестно отсидела полдня, выслушивая косноязычные рекомендации по выполнению невыполнимых задач, неистощимым потоком исходящих из высоких начальственных кабинетов. Их царственные обитатели, судя по всему, имели довольно приблизительное представление о целях и задачах образования на последнем этапе победного шествия социализма к своей окончательной гибели.
Опустошенные и оглушенные масштабностью поставленных перед ними задач, сельские менторы заглянули в магазин, из пыльных окон которого на них грустно взирал лысый манекен с огромными, как суповые блюдца, глазами, задрапированный в мешковато свисавший отрез допотопного серого кримплена.
Снопы яркого полуденного солнца, будто шпаги иллюзиониста, насквозь пронизывали душный торговый зал, высвечивая в хаотичном броуновском хороводе незатейливое соло каждой золотой пылинки.
Из радиоприемника журчал шлягер о зимних злоключениях некоторых представителей флоры, происходящих сплошь и рядом из-за неблагодарности людей, украшающих ими свои праздники лишь на несколько дней. Несомненным достоинством этого высокохудожественного произведения была впечатляющая рифма «розы – морозы», которую автор, очевидно, выстрадал и родил в муках бессонных ночей, хотя задолго до этого классик, зачинатель литературного языка, подверг ее незаслуженной обструкции. Песню исполнял всесоюзный сирота, чьи не бесспорные вокальные данные в немалой степени подкреплялись молочной белой кожей и премилыми ямочками на щеках.
Прикрыв глаза ресницами в подтаявших комочках туши, потевшая за прилавком дебелая продавщица млела, покачивая в такт ужасно красивой песне массивными серьгами с крупными бриллиантами.
С неподвижных лопастей давно почившего в бозе вентилятора, соседствуя с пыльной бахромой паутины, свисали гирлянды клейкой ленты, утыканные высохшими мушиными трупиками, застывшими в самых причудливых позах, и судорожно дергавшимися тельцами еще живых особей. Помятые феи предгорий (весьма лестное и в такой же степени неуместное сравнение самого эксцентричного сюрреалиста), отчаянно трепыхаясь, рвались к небесам, заманчиво голубевшим за мутными стеклами окон, и прерывисто, из последних сил звенели скомканными крылышками.
Прилавок явил взорам усталых женщин, алчущих гастрономических радостей, груды видавших виды рыбных консервов, составленных в весьма живописные пирамиды, где по дизайнерскому замыслу продавщицы, этой магазинной Изиды, удачно сочетались небесно-голубой цвет скумбрии в масле и килька в томате, исполненная преимущественно в оранжевых тонах.
На витрине, кроме консервов, соли, сахара и спичек, сиротливо теснились на слое фольги черствые пироги, нарочно сохраняемые неделями для туристов и прочих авантюристов, проезжающих к местам высокогорного отдыха. Воспетые еще великим писателем, мастером художественной детали, эти кулинарные изделия, вне всякого сомнения, не уступали ему по возрасту, о чем не преминула сообщить торговка, испуганно вскинув бровки, выщипанные тоненькими ниточками, – она боялась навлечь справедливый учительский гнев на головы своих отпрысков.
Когда женщины несолоно хлебавши направились к промышленному отделу, даже не подозревая о том, какой потребительский рай обрушится на их головы всего через пару-тройку лет, послышалось шалое стрекотание старенькой «Беларуси», и в дверях появился тракторист – тот самый неосмотрительно отвергнутый Валентиной актер-любитель.
К тому времени он уже сколотил крепкую семью, хотя и поколачивал, по слухам, жену, которую по странному совпадению тоже звали Валей. Мужчина снисходительно поприветствовал представителей чуждого социального класса и, даже не посмотрев в сторону своей бывшей пассии, принялся придирчиво изучать содержимое полок.
Перед ним во всем своем великолепии предстали изделия легкой – легонькой – промышленности: цветастые бумазейные халаты необъятных размеров, платья из ацетатного шелка, аккуратные стопки махровых полотенец, белья и чулочно-носочных изделий.
Порывшись в залежах совершенно одинаковой незатейливой обуви, – продукции напрочь дискредитировавшей себя плановой экономики, к немалому своему удивлению и огорчению продавщицы, не успевшей спрятать под прилавок дефицитный товар, который обычно сбывался на базаре, тракторист извлек на божий свет яркую обувную коробку нездешнего вида. С детской торопливостью он отбросил картонную крышку и, пошуршав глянцевито блестевшей упаковочной бумагой, открыл взорам случайных свидетельниц восхитительные бордовые мужские туфли румынского производства, окольными путями попавшие на периферию бескрайнего, но уже разъедаемого коррозией государства.
Непринужденно сбросив с ног пыльное парусиновое недоразумение, мужчина ударил по чувствительным интеллигентским рецепторам учительниц ядреным запахом, ничуть не уступавшим по силе отравляющим веществам удушающего действия, и принялся примерять импортную обувь, поочередно вставая то на одну, то на другую ногу, как дремлющая на болоте цапля. Выскочив из-за прилавка, продавщица выглянула из-за напряженных спин обездвиженных посконным духом женщин и с надеждой в голосе предположила:
— Кажется, они тебе малы на один размер…
— Нет, – сказал как топором отрубил удачливый покупатель, – они мне как раз!
Закинув старую обувь в заморскую коробку, он ткнул мозолистым пальцем в первое попавшееся платье из искусственного шелка цвета бедра очень испуганной нимфы – подарок, надо полагать, для худосочной жены. Труженик полей посмотрел на ценник, для виду пощупал ткань и жестом загулявшего миллионера бросил платье на прилавок, даже не обратив внимания на этикетку, недвусмысленно предупреждавшую: «Товары для полных».
Широкими, как шуфельная лопата, ручищами он пошуровал в стопках нижнего белья и, вытащив полосатые семейные трусы, своими размерами напоминавшие парус, что белеет в тумане моря голубом, невозмутимо примерил их к своим коренастым чреслам и торжественно присовокупил к покупкам.
Сдвинув ниточки бровей, продавщица сквозь зубы назвала комплексную стоимость товаров и с досадой звякнула серьгами в ушах, все еще сожалея об упущенных барышах. Мужчина выудил из нагрудного кармана засаленного синего комбинезона стандартного фасона стопку таких же синеньких пятирублевок и, предварительно послюнявив палец, рассчитался с ней, бодро похрустывая новенькими купюрами.
Плотоядный звон кассового аппарата напомнил работникам интеллектуальной сферы о размерах оплаты их квалифицированного труда – заметно приуныв, они отвели от механизатора завистливые взгляды. Ухмыляясь, тот пристроил под мышку коробку и прочие покупки, упакованные хозяйкой прилавка с учетом напряженной ситуации в целлюлозно-бумажной отрасли страны. Затем, бросив-таки напоследок взор выигравшего не одно сражение полководца на посрамленную по всем фронтам Валентину, зашагал к выходу, жизнеутверждающе поскрипывая новыми туфлями, как грузчики на свадьбе удачливого рыбака из веселого приморского городка, входящего теперь в состав другого, не менее веселого незалежного государства.
11.
Похоже, насмешливая судьба издевается над ней, посылая одно и то же несуразное признание в любви с интервалом почти в сорок лет. Валентина встала с дивана, бросив придирчивый взгляд на сияющую поверхность журнального столика темного стекла, – то был нелюбимый сводный брат изысканных произведений мебельного искусства знаменитого итальянского дизайнерского дома, в точности скопированный переимчивыми китайцами.
Не успела она подумать о том, не побаловать ли себя чашечкой чая с круассанами, как лежавший на специальной подставке телефон, вибрируя, требовательно просигналил о получении нового сообщения, – суррогатная электронная коммуникация, незаметно вытеснявшая все другие испытанные веками виды общения, достигала своего пика в вечерние часы. Рука Валентины сама по себе, как конечность подчиненного чужой злокозненной воле призрака из древних африканских поверий, потянулась к зазывно мигавшему телефону.
В чатах жизнь бурлила и била ключом: туда-сюда перелетали в сотый раз пересылаемые эсэмэски угрожающего содержания, которые почему-то были в особом почете у завсегдатаев виртуального мира: едким черным пламенем горели поджигаемые любознательными блогерами знакомые с сотворения мира продукты, которые до сих пор по умолчанию считались огнеупорными; жуткие жирные черви выглядывали из самых неожиданных плодов, доселе не вызывавших гастрономического интереса у разного рода насекомообразных; сомнительного вида неприятные субъекты обоего пола вещали о необратимых последствиях для стоящего на пороге экологической катастрофы человечества…
Когда Валентина очнулась, часы показывали четверть двенадцатого, а уставшая голова, забитая совершенно ненужной чепухой, гудела, как Царь-колокол на сквозном ветру. В сердцах она бросила телефон на диван:
— Проклятая игрушка! – и опять вспомнила бабушку.
Разменявшая восьмой десяток лет старушка, ровесница безумного, как бешеный зверь, века, неторопливо и основательно готовилась к переходу в иной, прекрасный мир, не идущий ни в какое сравнение с нынешним. Но, собираясь возвратиться вновь к тому, кто всем законной чередой дает страданье и покой, она еще надеялась пожить с десяток годков, любила вкусно поесть и целыми днями сидела перед телевизором, от которого была без ума. Водрузив на горбинку крупного кавказского носа доставшиеся от покойного мужа роговые очки, она, не отрываясь, смотрела на призывно мерцающий голубой экран, время от времени рассеянно поглядывая в раскрытый Коран.
Известные всей стране ведущие, которые считались иконами стиля, денно и нощно вещали о бесспорных преимуществах плановой социалистической экономики, об итогах очередного съезда с пространными речами бессменного генсека, которые ежеминутно прерывались бурными, продолжительными аплодисментами, перетекавшими в овации…
Со сдержанным оптимизмом они раскрывали статистические данные о неизменном росте благосостояния советского народа по сравнению с 1913 годом. На глазах зрителей не унывающие ни при какой погоде селяне вели бесконечную битву за урожай. Из жерл комбайнов, сошедших с конвейеров отечественных заводов-гигантов, как из рога изобилия изливались бесконечные потоки золотой пшеницы, а труженики полей растирали в мозолистых руках пахучие колосья, отделяя зерна от плевел, и оживленно подсчитывали количество намолоченного и сложенного в закрома Родины урожая.
Смущаясь перед камерами, несколько натянуто улыбались добившиеся особенно высоких надоев румяные доярки.
Нефтяники и шахтеры, удачливые добытчики углеводородов, пока еще приносивших прибыль государству, а не кучке подсуетившихся вовремя шулеров, с белозубыми улыбками на одинаково чумазых, но счастливых лицах рапортовали о досрочном выполнении плана.
И все как один испытывали чувство глубокого удовлетворения (как шутили тогдашние остряки, у советского народа появилось шестое чувство) и чуть ли не со слезами на глазах благодарили партию, правительство и лично дорогого генерального секретаря ЦК КПСС…
Поздно ночью оба канала государственного телевидения завершали свое однообразное вещание, разбавленное редкими, но редкостно жизненными фильмами.
Бабушка со вздохом выключала телевизор и, спрятав очки в обшитый зеленым бархатом футляр, говорила Валентине, которая взахлеб читала о трех
товарищах, по возвращении с Западного фронта по мере сил воевавших за место под депрессивным германским солнцем:
— Попомни мои слова, девочка, этот телевизор – дело рук дьявола, ворота прямиком в ад! От него, проклятого, все зло! Все, больше никакого телевизора!
Но когда утро окрашивало нежным светом стены древнего курятника, откуда уже слышалось сонное квохтанье курочек и недовольное бормотание индюка, главы индюшиного семейства, бабушка выпускала на волю сидельцев и, насыпав им кукурузных зерен, торопилась в дом.
Выпив несколько чашек чересчур сладкого чая с любимым вишневым вареньем, она, тяжело вздохнув, с усилием включала тугой тумблер черно-белого телевизора «Рекорд» и с Кораном усаживалась перед коварным творением дьявола, хотя вещание еще не началось и на экране загадочно подрагивали лишь геометрически идеальные линии настроечной таблицы.
Мама Валентины, работавшая медсестрой в райцентре, раздражалась при виде торчавшей перед говорящим ящиком свекрови и авторитетно, как медик, повторяла, что чрезмерное увлечение телевидением приводит к разрушению коры головного мозга, однако по вечерам тоже частенько подвергала свои извилины опасному воздействию.
Когда бабушка начинала клевать носом, погружаясь в неодолимую старческую дремоту, мама выключала звук и, рассеянно поглядывая на хаотичное мелькание немых картинок, слушала музыку из радиоприемника.
Валентина с детства была невольным свидетелем застарелой нелюбви свекрови и невестки, причина которой заключалась отнюдь не в пресловутом конфликте поколений, а в скоропостижном бегстве отца девочки из родительского дома сразу же после ее рождения. Спустя некоторое время от него пришла написанная буквально на коленке весточка, благодаря которой домочадцы получили геоданные о его местоположении на карте обширной страны: он подался на север якобы за длинным рублем.
В течение последующих шестнадцати лет от беглого отца Валентина не получила ни копейки, не говоря уже о длинном рубле. Только на имя бабушки изредка приходили короткие письма, после которых она молчала несколько дней и, забыв о телевизоре, сидела у окна, смахивая непрошеную слезу.
Даже сейчас, после стольких лет, Валентина представила как наяву: ясная морозная ночь смотрит в окна, в маленькой комнате трещит затопленная печь, и вся семья сидит перед телевизором.
Валентина с головой погружена в нескончаемый праздник, который теперь всегда будет с ней – и с ней тоже! (Кстати, она обязательно увидит этот удивительный, волшебный город, где музыка и огни, и в любимой кафешке Хэма закажет яйцо пашот, потягивая из узеньких рюмок – шотов – загадочный зеленый абсент…)
Из радиоприемника льется задорная песенка о предпочтительности совместных с друзьями путешествий в исполнении знаменитого во всем мире детского хора. Чистыми, будто омытыми в серебряной росе голосками детишки старательно выводят:
— Вместе весело шагать по просторам, по просторам…
А по черно-белому экрану телевизора с выключенным звуком нестройными шеренгами, под охраной хмурых конвоиров шествуют оборванные, грязные немецкие военнопленные, словно ожившая иллюстрация к самому великому роману о войне и мире, оставившему в назидание всем красочное описание отступления еще одной непобедимой армии.
Почуяв неладное, дремавшая с вязанием в руках бабушка просыпается и недовольно кряхтит, мама, выключив радио, тянется к телевизору, и в комнате звучит неповторимый бархатный баритон бессменного ведущего и по совместительству неутомимого путешественника, рассказывающего о нашумевшей экспедиции интернациональной команды на тростниковой лодке. С мягким юмором он раскрывает детали некоторых идеологических разногласий в стане мореплавателей: на шутливую критику норвежского босса по поводу качества социалистического хлеба, который якобы невозможно разгрызть, он ответил встречными претензиями относительно чрезмерной хрупкости его капиталистических зубов.
Бабушка улыбается нежно любимому ведущему, показывая зубные протезы, весьма удачно изготовленные по знакомству стоматологом из городской поликлиники, и снова принимается за вязание.
Но сухие, узловатые пальцы, на одном из которых блестит простенькое потертое обручальное колечко, двигаются все медленней, медленней…
12.
Валентина училась в восьмом классе, когда на экраны страны вышла многосерийная сага о необыкновенно мудром, глубоко несчастном и весьма интеллигентном цыгане, чьи тронутые сединой буйные кудри и мягкий молдавский акцент взволновали не одно трепетное женское сердце.
Смахивая слезы и торопливо вытирая подолом цветастого фартука очки, бабушка смотрела финальные кадры последней серии, где изувеченного прагматичными соплеменниками цыгана, пострадавшего за свою принципиальность, бесконечно долго везли в телеге по пыльной дороге, уходящей в самое небо.
Дверь с грохотом открылась – в проем с трудом втиснулась соседка Роза, заплывшая жиром до самых бровей, и, кое-как пристроив необъятный зад на придушенно охнувший старенький кожаный диван, уставилась, отдуваясь, на экран:
— Уф! Еле успела! Не дает досмотреть, проклятый! Лампочки выкрутил и сидит в темноте, как сыч!
Ее война с мужем с переменным успехом длилась уже четвертый десяток лет. Шмурдяк беспробудно пил с тех пор, как волоча пробитую немецкой пулей негнущуюся ногу, маленький, щуплый, злой, как сурок, вернулся из мест заключения, куда суровая, но справедливая Родина отправляла всех полоненных, вне зависимости от обстоятельств пленения и военных или иных заслуг.
В смутные времена принудительного переселения народов карты легли так, что национальность Розы в глазах власти не стала синонимом преступления, но как жена представителя другого народа, почему-то подвергнутого гонениям, ей было предписано вместе с детьми собраться в двадцать четыре часа и оставить свой дом. Но брат, работавший в районном суде, научил растерянную женщину написать в сельсовет отказ от мужа, благодаря чему горькую чашу депортации пронесли мимо ее семьи.
Сразу же по возвращении мужа доброжелатели открыли ему глаза на недостойное поведение супруги, не пожелавшей сгинуть на чужбине вместе с его детьми, и Шмурдяк возненавидел ее со всей страстностью своего скукоженного сердца, отравленного жгучей обидой на судьбу.
Ему бы порадоваться тому неоспоримому факту, что жена фактически не изменила ни ему, ни Отечеству, но Шмурдяк предательницу не простил. Роза валялась у него в ногах, вымаливая прощение и взывая к его здравому смыслу, но вскоре, отчаявшись, опустила руки. Зато Шмурдяк начал поднимать на нее руку, подобно остальным порядочным мужьям, вымещая на ней всю свою неизбывную злость (на кой иначе нужна жена!).
Но Роза после очередного громкого выяснения отношений, ничуть не убоявшись мужа своего, устроила, по совету того же брата, ЧП районного масштаба, и Шмурдяк, получив в ответ на прямое физическое воздействие пару косвенных, но недвусмысленных предупреждений, больше не пытался бить жену, хотя пить и всячески изводить ее не перестал.
Между тем дети повзрослели: дочки выскочили замуж и разлетелись кто куда, сыновья с семьями обосновались под боком, но Шмурдяк не забыл кровную обиду и при любой возможности мелочно гадил жене. Застав ее за чтением Корана или просмотром телевизора, он выкручивал пробки и, сидя в темноте, клевал носом, назло жене не уходя в свою комнату, – тогда Роза коротала вечер у Валентининой бабушки.
Как-то Валентина занесла ей с пылу с жару приготовленный бабушкой наваристый, аппетитный суп из фасоли и вяленого мяса. Пока Роза, рассыпаясь в благодарностях, переливала соседкино подношение в разрисованную милыми розочками эмалированную кастрюльку, на пороге появился Шмурдяк.
Подволакивая левую ногу и ввинчивая в клетчатый линолеум тяжелую деревянную трость, он прошел к столу и, с трудом согнув поврежденное колено, сел на струганый деревянный табурет. Зыркнув на жену из-под нависших курчавых бровей, он сунул в горячее варево крючковатый нос, из которого воинственно, как целый рой потревоженных ос, выглядывали пучки густой растительности. Старик молча достал из ящика стола потертую расписную ложку, самую большую из многочисленного хохломского семейства, и в несколько приемов, обжигаясь, давясь и звучно чмокая, опорожнил кастрюльку. Старушка с сожалением проводила взглядом последнюю ложку супа, исчезнувшего в бездонной пропасти мужниной пасти, и привычно заголосила:
— Чтоб тебе лопнуть, проклятый!
Проглоченное в спешке горячее, смешавшись с уже принятым внутрь горючим, видимо, усилило пагубное действие последнего. Неспешно вытерев тыльной стороной ладони жесткие седые усы, Шмурдяк с усилием встал и, покачнувшись, пробормотал:
— А ты… жалобу накатай в суд…или сельсовет… тебе же не впервой!
— Как ты надоел уже со своим сельсоветом! Пьяница!
Шмурдяк, поперхнувшись слюной, злобно хрюкнул:
— Докажи, что я пьяный! Ну? Докажи! Сучка терская! Ведьма!
Он раскашлялся, отдышался и, вытерев рукавом набежавшие на старые глаза слезы, добавил:
— И помни: доказательства, полученные…кхе… противоправным способом, не имеют… кхе… юридической силы…
— Будь проклят тот день, когда мой брат устроил тебя сторожем в суд!
Доказательство, которое вполне могло бы служить законным обоснованием предъявленного обвинения, не замедлило обнаружить себя: на плотной ткани его широченных тихоокеанских галифищ – Шмурдяк признавал только брюки военного покроя – появилось и стало предательски расплываться темное пятно. Валентина, вспыхнув, сломя голову побежала со двора, забыв свою посуду.
Роза в негодовании воскликнула:
— Постыдился бы ребенка, проклятый! Переоденься, пока снохи тебя не увидели!
Шмурдяк несколько запоздало понял, что обмочился и изрядно подмочил свою репутацию. Встреча с сыновьями или невестками со всеми вытекающими не входила в его планы – он бросил трость и с неожиданной прытью поскакал в свою комнату, где обычно отсыпался, изнутри подперев стулом крашенную ядреной синей краской дверь.
И каждую ночь, едва закрыв глаза, он снова и снова полз под свинцовым градом по обжигающе горячему сталинградскому снегу туда, где истекал кровью его брат-близнец – его половинка, его отражение, его душа – и стонал и плакал во сне…
Между тем непотопляемый ромал ценой невероятных усилий поднял с цветастой подушки многострадальную голову с пышной шевелюрой, агонизируя, но сигнализируя зрителям, разочарованным невнятной концовкой, что так просто они от него не отделаются.
Это значило, что намечается продолжение фильма, или, как сказали бы нынешние поднаторевшие на бесконечных мыльных операх глотатели сериалов, – второй сезон или сиквел. Однако не подозревавшие о хитрых кинематографических пиар-технологиях старушки проводили глазами титры, как бы сгорающие в пламени цыганского костра под надрывающую душу музыку заслуженного чувашского деятеля культуры, не желая верить, что это конец фильма.
— Как же так?! – в негодовании вскричала соседка. – Бадулай так и не встретится с Клавой?
На чем свет стоит обругав всех, кто имел отношение к созданию фильма, старуха воздела к небесам полные руки, потрясая провисшими дряблыми складками, и, дрожа от нетерпения, затараторила:
— Аллах, Аллах! Ты слышала новость, Нуржан? В соседнем районе из-за этого Бадулая муж развелся с женой!
Бабушка недоверчиво поджала губы, но соседка стремительно наклонилась к ней, грозя рухнуть с дивана, и понизила голос:
— А жена – член партии!
— Что за глупости, Роза, – покачала головой бабушка и, сняв очки, устало потерла багровую ложбинку на переносице.
Старуха негодующе брызнула слюной прямо в лицо бабушке:
— Аллахом клянусь, Нуржан! Мне сестра жены деверя двоюродной тетки рассказала, она по соседству с ними живет. Она, мол, сама мужу открылась, что любит того, цыгана, и больше не может с ним жить…
— Во всем виноват телевизор! – сердито отозвалась бабушка.
— Слушай, Нуржан, – без всякой связи продолжила Роза, – Одолжи мне на завтра свою вставную челюсть, а? Я на поминки пойду, годовщина моей несчастной сестры, которую окаянный муж загнал в могилу, а ведь ей еще и восьмидесяти не было! А без зубов-то чего на поминках делать? Все хорошие сыновья своим матерям давно уже сделали челюсти, а от моих разве дождешься? Умрешь с ними с голоду!
Оглядев рыхлую гору жира, которая, казалось, уже стекала студенистыми каплями с потертой кожи старого дивана, бабушка невольно засмеялась:
— Тебе, Роза, это точно не грозит… Ты не обижайся на меня, но зубы я тебе не могу одолжить – сноха обещала вяленого мяса завтра пожарить, так что мне мои зубы позарез нужны…
Огорченная отказом соседка пригорюнилась было, но бабушка, усмехнувшись, посоветовала:
— А ты у Амины попроси!
— У Амины? Да как же я ее попрошу, если мой старик целых десять лет к ней таскался? А потом я ей волосенки-то последние повыдирала… Да она про это забыла, наверно, давно. Думаешь, одолжит она мне свою челюсть?
— Конечно! Все это уже быльем поросло…
Приободренная, Роза тяжело поднялась и, колыхаясь большим телом, поплыла к выходу, как печально известный восьмипалубный пароход, идущий на верную гибель навстречу айсбергам.
Возле двери она остановилась и, схватившись для устойчивости за косяк, обернулась:
— Чуть не забыла, Нуржан, эта бесстыжая не только мужа бросила, но и троих детей! Как тебе это?
— Аллах! Аллах! – покачала головой бабушка. – Скоро точно будет конец света! А все проклятый телевизор!
Знала бы бедная бабушка о том, что через каких-нибудь двадцать лет телевизор покажется детской игрушкой и все человечество в легковерном ослеплении побежит за суррогатными продуктами, суррогатным общением и суррогатной любовью…
13.
В 10. 00 Валентина была уже на отгороженной шлагбаумом территории бывшей фабрики «Большевичка», не выдержавшей жесткой конкуренции с хлынувшими в страну турецкими товарами и закрывшейся сразу же после перехода на капиталистический путь развития.
Оказавшись за громоздкими вращающимися дверями бывшего женского общежития, о чем гласила сохранившаяся с тех времен вывеска, она задержалась на первом этаже, где размещались офисы адвокатов, нотариусов, риелторов, консультантов по любым вопросам, шарлатанов от медицины и даже магов, колдунов и прочих оккультных работников и толпились многочисленные посетители.
На площадке Валентина стянула с сапог зеленые носки и, аккуратно упаковав их в целлофановый мешочек и спрятав в специально отведенный для них отдел черной кожаной сумки, поднялась на второй этаж.
Несмотря на то что полным ходом шла зимняя сессия, длинные коридоры с допотопными деревянными полами и советской отделкой, встретили преподавателя немецкого языка пугающей пустотой и молчанием. На стук Валентининых каблуков, эхом отдающихся по всему этажу, из кабинета ректора показалось несколько изможденных долгим ожиданием физиономий – ждали высокого начальника, который должен был решить судьбу вуза.
Это коммерческое образовательное учреждение, открытое еще в те времена, когда частные университеты на радость родителям и их бестолковым отпрыскам росли как грибы после дождя, уже взяла на заметку, собираясь лишить лицензии, контролирующая организация. Само звучание этого вышестоящего органа – Обрнадзор, которым впору было пугать непослушных детей, вызывало непреходящую оторопь у преподавателей, в большинстве своем перелетающих с места на место совместителей. Все понимали, что их частная лавочка должна повторить судьбу тысяч таких же никому не нужных заведений, но с отчаяньем обреченных оттягивали свой неминуемый конец.
Валентина прошла в обозначенную в расписании аудиторию и облегченно вздохнула: за ветхими, обшарпанными столами, заимствованными когда-то предприимчивыми отцами-основателями из рабочей столовой, в полной тишине сидели, уткнувшись в айфоны, девять студентов, все-таки явившихся на зачет.
Разложив по столам листки с вопросами итогового мониторинга, она присела и вгляделась в невыразительные лица молодого и едва знакомого племени. Слетевшись неизвестно зачем со всех концов бескрайней родины благодаря великой уравнительной силе единого государственного экзамена, они практически не посещали занятий, откупаясь во время сессий от преподавателей, но, наслышанные о невиданной принципиальности Валентины, пришли посмотреть на представителя почти полностью вымершего как вид неподкупного педагогического деятеля.
Отложив в сторону дорогущие смартфоны, студенты растерянно вертели в руках листки с вопросами. Через полчаса рослая, белокурая девица в очках подняла руку и, уверенной поступью прирожденной отличницы взойдя на кафедру, назвала тему «Автобиография» и бодро начала:
— Их хайсе Марина Котова… Их хабе им яре ахтцейн хундерт…нойн унд нойнцих геборен…
Усмехнувшись, Валентина перебила ее:
— Вам не кажется, молодые люди, что Марина очень хорошо сохранилась для своего возраста?
Однако лица студентов, несведущих в особенностях употребления порядковых числительных в немецком языке, остались непроницаемыми. Одна Марина, запоздало понявшая, что, переставив слова, добавила себе сотню лишних лет, смущенно хихикнув, поправилась:
— Ой, простите, нойцейн хундерт нойн унд ахтцих, энтшульдиген…
Вторая студентка, которой досталась тема «ФРГ», бойко начала:
— Бундес Републик Дойчланд… – но больше не сумела выдавить ни слова. Когда Валентина посоветовала ей подготовиться и прийти в другой раз, девушка залилась слезами и, заламывая руки, попросила пожалеть несчастную сиротку и поставить зачет.
База данных в компьютере выдала недвусмысленную информацию о том, что в наличии имеются оба родителя, состояние которых – по крайней мере, физическое – можно считать вполне удовлетворительным. Валентина вздохнула:
— Отправляйся к папе с мамой и подготовься к зачету как следует.
Круглая сиротка сделала круглые глазки, но покинула аудиторию под смешки однокашников.
Тем временем пустовавшие доныне коридоры пришли в движение: срочно созванный ограниченный контингент обучающихся создал некоторую видимость кипучей образовательной деятельности.
Когда наконец долгожданный чиновник из Обрнадзора показался на площадке второго этажа, весь преподавательский состав во главе с ректором, двадцатишестилетним юристом, сыном какого-то авторитета, за немалые деньги купившего здесь местечко под солнцем для своего отпрыска, заискивающе улыбаясь, ринулся ему навстречу, как к дорогому гостю.
Высокое лицо имело низкий рост, красиво уложенные волнистые каштановые волосы, пустые оловянные глаза с неизменным чиновничьим выражением брезгливой пресыщенности и низкий пуленепробиваемый лоб, как говаривал любивший эксперименты со словом задорный писатель-сатирик. На упитанной фигуре отлично сидел черный итальянский костюм, дополненный туфлями из страусиной кожи с кристаллами Сваровски – последний писк лихой моды, являющейся, как известно, тираном и самым распространенным недугом новейших россиян.
Молодой ректор точно в таком же костюме (что с неудовольствием было отмечено высоким гостем), обнажив в радушной улыбке тридцать два безупречных зуба из немецкой металлокерамики, протянул ему руку, неосмотрительно сверкнув платиновым корпусом стоивших шестизначную сумму часов знаменитой швейцарской фирмы. Пустые глаза чиновника вмиг наполнились смыслом и хищно блеснули, он царственным жестом подал свою дряблую начальственную длань, будто для поцелуя, тыльной стороной вверх, как старозаветный помещик, в честь праздника соизволивший выйти к ожидающим высочайшей милости холопам.
 Процедура проверки была выверена до мелочей: чиновник, напустив на себя важный вид, потыкал пальчиком в висевшее на стене расписание, испещренное датами экзаменов и зачетов, заглянул, неодобрительно качая головой, в несколько наспех переделанных под аудитории четырехместных жилых комнат, переложил с места на место вороха бумажной отчетности, якобы сверяя их с электронным вариантом того же самого, и с величием только что рукоположенного самодержца вступил в кабинет ректора, видимо, для дачи ценных рекомендаций по гуманизации и оптимизации образовательного процесса. Затем гость, действительно оказавшийся весьма дорогим, удалился, нежно придерживая отведенной на время карающей десницей карман пиджака, куда перекочевала кредитная карточка отпрыска криминального авторитета с немалой суммой на текущем счете – нескромное буржуазное обаяние сослужило ему плохую службу.
Процедура проверки была выверена до мелочей: чиновник, напустив на себя важный вид, потыкал пальчиком в висевшее на стене расписание, испещренное датами экзаменов и зачетов, заглянул, неодобрительно качая головой, в несколько наспех переделанных под аудитории четырехместных жилых комнат, переложил с места на место вороха бумажной отчетности, якобы сверяя их с электронным вариантом того же самого, и с величием только что рукоположенного самодержца вступил в кабинет ректора, видимо, для дачи ценных рекомендаций по гуманизации и оптимизации образовательного процесса. Затем гость, действительно оказавшийся весьма дорогим, удалился, нежно придерживая отведенной на время карающей десницей карман пиджака, куда перекочевала кредитная карточка отпрыска криминального авторитета с немалой суммой на текущем счете – нескромное буржуазное обаяние сослужило ему плохую службу.
14.
Направляясь в магазин за свежей французской булкой, Валентина увидела бабку Соню, местного старожила, зорко сторожившую от посягательств свое законное место на паперти божьего дома, за которое, как божилась старушка, всякий день отстегивала дань и мафии, и полиции.
Поднеся к подслеповатым глазам только что брошенную кем-то в коробку купюру, бабка Соня скривилась и, сунув деньги в карман, тихо бросила в спину удаляющейся ондатровой шубе:
— Сучка крашеная! Причем дешевой краской! Китайской! – но, заметив Валентину, сладко заулыбалась.
Валентина выгребла из кошелька мелочь и высыпала ее в подставленную ладошку в вязаной варежке.
— Дай тебе Бог здоровья! – зашамкала старушка и, обернувшись, размашисто перекрестилась на сверкающие купола с горящими, как жар, золотыми крестами.
Этот храм, похожий на свадебный торт отпрыска только что вылезшего из грязи князя, недавно был отстроен на деньги некоего олигарха. Настоятелю божьего дома было настоятельно рекомендовано сохранить имя благодетеля в тайне, но вездесущая бабка Соня, бывшая за свою бурную жизнь последовательным анархистом, атеистом и чекистом, без труда докопалась до истины.
После богослужения, умильно уронив слезки три на аналой со святыми дарами, она заговорщически собрала вокруг себя товарок и торжественно поклялась, что таинственный строитель храма не кто иной, как покаявшийся в массовых убийствах маньяк, некогда наводивший ужас на обитателей тихих спальных районов. На суде он якобы рыдал («Вот такенными слезами!» – сжимала бабка свой сухонький кулачок), и, отсидев пару лет, был освобожден из мест не столь отдаленных за хорошее поведение.
Олигарх еще долго замаливал грехи, вкладывая немалые суммы в возведение богоугодных заведений, попутно создавая нежизнеспособные, как бабочки-однодневки, фирмы, потихоньку освобождая денежную массу от негативного шлейфа, неизменно ползущего за большими финансами.
За этим занятным занятием его застала неприятная новость – ее принесла на хвосте знакомая сорока в чине полковника федеральной налоговой службы – в недрах соответствующих органов уже зрело новое уголовном дело, связанное с финансовыми махинациями.
Спешно свернув благотворительную и иную деятельность, обиженный делец чалиться на неблагодарной родине больше не стал и причалил к известному острову – островку финансового спокойствия.
Власти Туманного Альбиона вняли его туманным объяснениям по поводу преследований со стороны злобного режима и, слегка пожурив за небезупречное прошлое, дали политическому эмигранту вид на жительство – исключительно из альтруизма – после щедрых денежных вливаний в экономику бывшей империи. Оказавшись под защитой самой демократичной демократии в мире, беглец вздохнул с облегчением и влился в стройные ряды законопослушных граждан.
Валентина поднялась в свою квартиру, с удовольствием думая о том, какой отгрохает замечательный плов, который не снился ни одному из доморощенных кулинаров, дурящих народ на кабельных каналах и в виртуальных просторах, где с них нет никакого спроса. От двери внезапно отделилась какая-то тень и шагнула к ней:
— Здравствуй, жена!
— Бывшая жена! – бросила Валентина, с неприятным удивлением опознав основательно подзабытые черты второго мужа, который уже добрых семь лет назад не по собственному желанию, а по настоятельному требованию Валентины покинул ее дом. – Ты что здесь делаешь, Игнат?
— Я тоже рад тебя видеть. Так и будем разговаривать на лестничной площадке? – Игнат повысил голос. – Неужели твои соседи перестали подслушивать и подглядывать, особенно Глафира, свет моих очей?
Валентина открыла дверь ключом с брелоком в виде Эйфелевой башни, подаренным третьим мужем Карпом вкупе с обещанием обязательно свозить ее в Париж (так и не выполненным), и бывший супруг джентльменским жестом пропустил ее вперед. Гость пристроил у стенки облезлый коричневый саквояж, потертый до такой степени, будто он по-пластунски полз за хозяином от самой воронежской улицы имени Лизюкова, где Игнат проживал с престарелой матерью еще с тех пор, когда его звали Альфредом.
Его родитель, тихий учитель химии с непредосудительным именем Петр Петрович Игнатов назвал своего единственного, долгожданного сына в честь автора и пламенного пиарщика некоторых воспламеняющихся веществ, в конце жизни изящно изменившего репутацию торговца смертью посредством учреждения самой престижной премии.
Будучи еще в нежном возрасте, Альфред в полной мере испытал на себе все прелести троллинга, буллинга и абьюза: и одноклассники, и дворовая шпана – все называли угловатого и трусоватого мальчишку не иначе, как созвучным именем бесноватого фюрера.
Когда же настала мятежная юность – пора тревог и грусти нежной, и пришло время получения документа, дубликата бесценного груза, он взял наследственное, так сказать, имя Игнат, и каждый раз, доставая паспорт из широких штанин, радовался, как ребенок.
Обнаружив обувной стеллаж на привычном месте, он бережно снял поношенные, но начищенные туфли и аккуратно, носками вперед, поставил их на полку. Ничуть не удивившись, Валентина признала в этой обуви ту самую пару, в которой изгнанный муж ушел от нее в туманное, слякотное утро семь лет назад.
Игнат уверенно, как к себе домой, прошел в комнату и, развалившись на ее любимом диване цвета Бискайского залива, осмотрелся:
— Ничего не изменилось, жена!
— Бывшая жена! – холодно повторила Валентина. – Ты зачем пришел?
— Понимаешь ли, дорогая, я приехал в командировку на несколько дней и не вижу никаких препятствий для того, чтобы остановиться у тебя на это время… Гостиницы нынче в столице дерут безбожные цены! Я боялся столкнуться с твоим очередным благоверным, но мужа-то никакого и нет, думаю. Ты позволишь мне остаться? Ты же не прогонишь меня, как тогда, на улицу с двумя рубашками и парой носков?
Когда дело касается взаимных претензий, бывших супругов не бывает, и Игнат, будучи постоянно жаждущим крови энергетическим вампиром, намеренно нарывался на скандал.
О наличии у мужа этого бесценного качества Валентина еще на заре их совместной жизни узнала из глянцевого женского журнала, где блестящий психолог, хорошо известный в богемном обществе, освещал со всех сторон уродливую сущность кровопийцы-вампира, паразитирующего на жизненной энергии партнера по коммуникации.
Умудренная опытом более или менее мирного сосуществования с тремя мужьями, как на подбор, совершенно незрелыми личностями, Валентина проигнорировала наживку, которую должна была немедленно заглотать:
— Ты есть будешь?
— Не откажусь, конечно…
— Тогда не вздумай болтать мне под руку, а то будешь лишен ужина. Я пустила тебя потому, что в такую погоду даже собаку на улицу не выгонишь, но кормить я тебя не обязана…
Бывший муж удобно устроился перед телевизором, и вскоре до Валентины донеслась его раздраженная полемика с невидимыми экспертами, чьи одни и те же постные физиономии мелькали на всех каналах:
— Невидимая рука рынка, говоришь? Это называется «сговор монополистов», придурок!
Спустя некоторое время Игнат крикнул в притворенную дверь:
— Валентина, когда у тебя отпуск?
Валентина выглянула из кухни:
— В июле, как и у тебя, а что?
— Собирайся, поедем отдыхать на Канары! По крайней мере, этот чертов министр, мразь номенклатурная, утверждает, что мы можем себе это позволить благодаря прибавке к пенсии!
Валентина возмутилась:
— Ты что, специально наступаешь на любимую мозоль? Из-за повышения пенсионного возраста я получу пенсию только через год и восемь месяцев!
Она давно уже лелеяла мечту доработать до пенсии, продать квартиру и уехать домой, где ее ждали старенькая мама и дочка, готовившаяся стать матерью, но очередной подарок власти спутал все ее планы.
— А я только через пять лет! – истерически взвизгнул Игнат, гневно блеснув выцветшими голубыми глазками.
— Не волнуйся так, – вздохнула Валентина, – если будешь так нервничать, рискуешь отправиться на кладбище, а не на Канары, а они этого и добиваются…
Не вняв увещеваниям бывшей жены, Игнат вскочил с дивана, озираясь по сторонам, будто выискивая нечто более весомое, чем слова.
— Ухват ищешь, Игнат? – невольно улыбнулась Валентина, намекая на его литературного тезку из стрелецкой сказки, при деятельном участии которого народные массы, вооруженные подручными средствами, умело воспользовались революционной ситуацией и осуществили смену верховной власти.
Игнат не оценил ее шутку и, не отрываясь от экрана, вскричал:
— Посмотри, какая отвратительная рожа!
На одном из крикливых вечерних ток-шоу важное чиновное лицо, сменщик мудреватого и кудреватого министра финансов, блистая плешью на крупной голове, как подносом, вещал, хитро, по-ленински щурясь, о несомненных выгодах пенсионной реформы для неблагодарных граждан, протестующих против непосильного труда до гробовой доски по причине дремучей экономической безграмотности.
— Да, рожа не из приятных, – согласилась Валентина, – и откуда они берутся в таком количестве? Ни одного приличного лица в телевизоре!
— Отрицательная селекция, – развел руками Игнат и, сокрушенно вздыхая, отвернулся от экрана, откуда уже визжала оголтелая реклама.
— Ты слышала новый анекдот? – Игнат очень любил анекдоты, хотя рассказывать их совершенно не умел. – Битцевский маньяк подкарауливает женщин в парке и… убеждает их в преимуществах более позднего выхода на пенсию…
Игнат придушенно засмеялся, кудахтая, как счастливо избежавшая занесенного ножа курица, со всех ног бегущая к спасительному курятнику.
Наконец, бережливо выключив телевизор, Игнат, шлепая великоватыми тапками для гостей, потащился на кухню. Присев на табурет, яростный радетель за народ тотчас забыл о притязаниях на социальную справедливость и, положив ногу на ногу, с сожалением оглядел сияющий чистотой рай, откуда был когда-то безжалостно изгнан, как незаконно вкусивший запретного плода прародитель. Некоторое время он принюхивался, раздувая крылья усеянного крупными редкими веснушками носа, потом, заглянув в широкий казан где, задиристо отстреливаясь жиром, подрумянивались бараньи косточки, вкрадчиво спросил:
— Ты на каком масле жаришь?
— На машинном! – отрезала Валентина.
15.
Игнат был записным скупердяем, который мог оспорить пальму первенства у справедливо осмеянного хрестоматийного помещика, прозванного злыми на язык крестьянами обидным прозвищем Заплатанной … Надо сказать, при этом исчерпывающем определении предполагалось и существительное, которое великий автор опустил из соображений целомудрия, предоставив пытливому читателю приятную возможность домыслить все самому в меру, так сказать, своей испорченности.
Игнат годами носил один и тот же залоснившийся на лацканах и рукавах дешевый костюм в серую елочку производства воронежской швейной фабрики; заставлял Валентину штопать белье и носки до тех пор, пока они не превращались в нечто вроде марли, на которую ее бабушка когда-то откидывала творог за неимением в те времена иных навороченных приспособлений; не разрешал ей выбрасывать просроченные продукты; устраивал дикие скандалы, если жена осмеливалась готовить не на использованном, а на свежем подсолнечном масле.
Однажды, торопливо макнув ломоть свежего лаваша в густую, пряную подливку приготовленного по бабушкиному рецепту отменного гуляша, он, ничуть не таясь, пересчитал у себя в тарелке кусочки мяса, потом без тени смущения обвинил жену в том, что она специально недокладывает ему богатых белковыми соединениями продуктов, как известному хищному животному в зоопарке, прогремевшему на всю страну благодаря не менее известному студенту кулинарного техникума.
Подмеченное еще абхазским патриархом фатальное свойство белковых соединений не замедлило обнаружить себя – этот инцидент Валентина сочла беспрецедентным оскорблением и без промедления выставила мужа за дверь. Так, невольно нахимичивший кандидат химических наук Игнат выпал в осадок, наподобие некоторых малорастворимых аморфных веществ.
— Игнат, старое подсолнечное масло – это сплошные канцерогены, – в который раз заметила Валентина, – ты же образованный человек, химик, должен знать такие простые вещи. Кстати, ты закончил писать докторскую диссертацию?
Игнат – вечный кандидат – съежился, пряча водянистые, выцветшие, будто у состарившейся змеи, глаза. Короткие пучки светлых бровей трагически сошлись у переносицы, явно диссонируя с оптимистическим звучанием слов:
— Вот-вот закончу…
— Да? – Валентина испытующе посмотрела на него. – Что-то меня терзают смутные сомнения…
Лишенный какой бы то ни было деловой хватки и творческой жилки, бесцветный, как листовидные кристаллы тетразола, которому и была посвящена его научная работа по органической химии, Игнат уже третий десяток лет мучился над докторской диссертацией, инфантильно объясняя свою академическую несостоятельность нехваткой времени и метафизической бренностью бытия. Попутно по мере сил он подвизался в провинциальных вузах, хотя обитающие в виртуальном мире студенты не очень велись на будоражившие воображение явления катализа, каогуляции, рефракции и прочие премудрости, имеющие, прямо скажем, весьма отдаленное отношение к настоящим потребностям молодого поколения. Больше года на одном месте Игнат никогда не задерживался ввиду склочности, подозрительности и непоколебимой уверенности в собственной недооцененности, неустанно подогреваемой матерью-старушкой.
Перехватив ее недоверчивый взгляд, Игнат нахмурился, и носогубные складки – неопровержимые свидетельства ранних разочарований – резче обозначились на скомканном лице:
— У меня все прекрасно, новую работу нашел, на конференцию приехал, вот допишу диссертацию и буду получать докторскую надбавку…
— А с прежней почему ушел?
— Да секретарша на кафедре нечистая на руку оказалась, повадилась, понимаешь, у меня из стола таскать все, что подвернется: то скрепки возьмет, то карандаш, то точилку…
— Ну? – насторожилась Валентина.
— Ну и поговорил с ней… поругался… скандал вышел…пришлось уйти…
Как-то еще во времена безоблачного супружества Игнат в сильнейшем беспокойстве призвал Валентину, колдовавшую на кухне над поджаркой, – только виртуозно соединив ее с томившимся на огне супом, она ответила на отчаянные мольбы супруга.
Войдя в комнату, Валентина обнаружила мужа, лихорадочно заглядывающего во все ящики и отсеки мебели, как потенциальный наследник дяди-миллионера, переворачивающий дом вверх дном в поисках его завещания, пока остальные родственники скорбят над могилой усопшего.
Игнат обратил к ней покрытое испариной бледное лицо и, заикаясь от волнения, спросил:
— Я вчера принес упаковку бумаги для диссертации, где она?
— Не знаю, – легкомысленно пожала плечами Валентина.
— Бумага лежала здесь, в верхнем ящике стола, – от Игната повеяло могильным холодом, как от замыслившего недоброе венецианского мавра, – а сейчас здесь ничего нет.
Переспорить несгибаемого Игната было делом гиблым, и Валентина, понимая всю абсурдность ситуации, включилась в поиски драгоценной бумаги, но, так и не найдя во всей комнате ничего даже отдаленно напоминавшего стандартные листы А-4, развела руками:
— Может, ты ее в другое место спрятал?
— Нет! Я точно помню, что положил новенькую упаковку за 230 рублей в верхний ящик стола!
— Когда ты потерял ключи от квартиры, ты тоже утверждал, что повесил их именно на первый крючок вешалки, а как было на самом деле, помнишь? Мне вернула ключи знакомая продавщица из хлебного отдела! А ты потом говорил, что это я подбросила в магазин ключи!
Дрожа от негодования, Игнат подступил к ней:
— Не увиливай! А ну признавайся, негодяйка, куда дела мою бумагу?
— Да не трогала я ее…
— Знаю я, ты утащила бумагу в свое нищее заведение, которое почему-то называется университетом! У вас там вечно всего недостает!
— Это у тебя недостает, причем мозгов, ты небось сам ее куда-нибудь засунул! – рассердилась Валентина.
Потрясая сжатыми кулаками, Игнат издал воинственный вопль, как Виннету, достойный сын Инчучуна, намеревающийся снять скальп с пропащей головы очередного бледнолицего:
— Отвечай, несчастная, где моя бумага?!
Понедельник, и без того тягостный напоминанием о невыносимой цикличности бытия, не очень плавно перетекал в безотрадный вечер, лишенный какой бы то ни было томности, и Валентина сказала примирительным тоном:
— Да куплю я тебе завтра бумагу, сколько хочешь упаковок…
— Нет! – Игнат впал в состояние крайнего кататонического возбуждения. – Мне нужна моя, моя бумага!
— Ты ведешь себя как ребенок, тебе, часом, подгузники не поменять? – потеряла терпение Валентина.
Игната чуть не хватил Кондрат.
— Больше ни минуты в этом проклятом доме… ни одной минуты, – взвизгнул он и, отпихнув жену, побежал в спальню, хлопнув дверью так, что в прихожей с паническим перезвоном закачалась люстра из чешского хрусталя.
Махнув рукой, Валентина направилась на кухню, зная, что беглый супруг, проголодавшись и придя в себя, придет домой ниже травы тише воды. Однако, заинтригованная подозрительным бездействием мужа, который по разыгранному многократно сценарию уже должен был на пару часов избавить ее от своего надоедливого присутствия, она заглянула в спальню.
Игнат оторвался от безмятежно выглядывающей из-под стопки полотенец упаковки белоснежной бумаги и посмотрел на жену, как некий страдавший деменцией египетский король, пойманный с поличным, когда во время аудиенции самолично пытался стырить часы не у кого-нибудь, а у лорда Черчилля, чрезвычайно обескураженного таким пассажем.
Вызывающе облизнув пересохшие губы, Игнат сломя голову кинулся в наступление:
— Это ты специально спрятала, чтобы позлить меня!
16.
Валентина выключила горелку, нарезала хлеб, сыр тоненькими просвечивающими ломтиками и достала из холодильника консервированные баклажаны собственного приготовления.
Игнат нетерпеливо заерзал на стуле:
— Ну, все готово, давай уже ужинать…
— Не готово! – безмятежно ответила Валентина.
— Как не готово?
— Ну, не готово, что ж такого?
Плов должен был немного потомиться на плите, чтобы все ингредиенты полностью раскрыли свой вкус и успели отдать аромат блюду, да и Валентина не смогла отказать себе в удовольствии потомить ожиданием незваного гостя..
Доев плов до последней крошки, Игнат, блаженно жмурясь, умял баклажаны и, обмакнув губы салфеткой, весьма довольный, сказал:
— Ты, как всегда на высоте, дорогая! А синенькие просто огонь! Теперь чайку бы…
Разлитый рукой Валентины, в тонкие фарфоровые чашки душистой струей побежал прекрасно утоляющий жажду чай собственного купажа. Хозяйка, не чаявшая души в чае, держала его состав в строжайшей тайне – Игнат знал только, что основу божественного на вкус напитка составлял сбор кавказского разнотравья с многообещающим названием «Поцелуй горца».
Он потянулся к сахарнице и, бухнув в чашку три ложки сахара с верхом, долго размешивал чай, немилосердно стуча мельхиором по хрупкому фарфору. Осознав свою этикетную оплошность, Игнат с беспокойством покосился на бывшую жену и, вцепившись в чашечку обеими руками, звучно втянул в себя горячий чай наподобие сказочного кита, по рассеянности заглатывающего корабли с парусами и гребцами, палубами и пушками.
— Игнат-аристократ! – насмешливо заметила Валентина, наливая себе вторую чашку душистого чая.
Игнат пропустил мимо ушей ее замечание. С достоинством откусив нежный, сочившийся кремом круассан, он с сожалением посмотрел на сдобную булочку, к которой тянулась рука Валентины:
— Как говорили древние мудрецы, завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу… А ты ведешь себя так, будто у тебя нет ни друзей, ни врагов.
С удовольствием отхлебывая чай мелкими глоточками, Валентина ехидно посмотрела на него поверх чашки:
— Почему же нет? Прямо передо мной сидит один. Враг.
Игнат обиделся:
— Разве я тебе враг? Просто много есть на ночь вредно, я за тебя переживаю… Он по привычке поставил пустую чашку на блюдечко вверх донышком и, изучив витиеватое переплетение синих букв «ЛФЗ», поднял глаза, невинные и ясные, как у воришки неполиткорректного нынче цвета, который не корысти ради, а токмо волею снедавшей его болезненной страсти ненадолго расстроил радужные планы охотников за стульями:
— А что означают эти буквы?
— Угадай с трех раз!
Игнат молча разгладил на столе белоснежную салфетку с голубой каймой, видимо собираясь с духом, и, кашлянув, заискивающе посмотрел на невозмутимо прихлебывающую чай бывшую супругу:
— Валентина, прошу тебя, не отказывай мне сразу, подумай. Мы с тобой оба одинокие, несчастные люди… Почему бы нам не объединиться опять и вместе противостоять невзгодам? Что может быть лучше встретить старость с верным супругом? Вспомни, если подумать, мы же жили практически душа в душу… А, Валентина?
Не ожидавшая такого поворота Валентина поперхнулась и сердито отставила ставший вдруг совершенно безвкусным чай. После глубокой театральной паузы Игнат продолжил:
— И мама тебя очень любит, перевезли бы ее к нам, сюда… Как хорошо мы жили прежде! Ты мне диссертацию всегда правила, а теперь бессовестные корректоры дерут втридорога, 80 рублей за один печатный лист, представляешь…
Игнат всегда потрясал Валентину своей орфографической бездарностью – ошибки в его текстах можно было добывать промышленным способом, как заметил современный классик, певец райкомовских будней и гипсового трубача. Некоторое время она занимала при муже место почетного печатника, но повсеместное распространение интернета избавило ее от этих обязанностей, хотя даже самый совершенный текстовый редактор Ворда не мог справиться с его безумными и бездумными речевыми ошибками.
Игнат помолчал, пытаясь по лицу Валентины определить ее реакцию на свое сногсшибательное предложение.
— Подумай, как хорошо нам было бы здесь, в этом уютном гнездышке втроем…Ты бы помогла мне устроиться на работу в ваш университет, там платят неважно, но две зарплаты – это уже серьезно, уж я бы сумел экономно распределить все траты…
— Ты хочешь работать в нашем нищем заведении, которое почему то называется университетом? – глядя прямо в глаза Игнату, сказала совершенно незлопамятная Валентина,
Но Игнат даже не повел своей куцей бровью:
— И продукты только и делают, что дорожают… Помнишь анекдот про то, как Сталин, вернувшись с того света, спросил нынешних политиков, мол, когда в последний раз снижались цены?
— Ну, и когда же они снижались? – хмуро спросила Валентина.
— В 1953 году! При нем, при Сталине! – истерично хохотнул Игнат. – И после смерти кровожадного тирана они только и делали, что повышались, представляешь? Опять же коммунальные платежи неумолимо растут почему-то, налог новый ввели на недвижимость… Кстати, твоя квартира в муниципальной собственности? Или приватизирована?
— Это моя квартира! Моя! – раздраженно воскликнула Валентина, не избежавшая распространенного порока столичных жителей, поголовно испорченных треклятым квартирным вопросом.
— Конечно, твоя, дорогая, – кротко согласился Игнат, – но мы бы могли вместе нести, так сказать, бремя недвижимости… Я со всем уважением к тебе, только ты должна принять несколько моих условий, без которых наша совместная жизнь невозможна…
Валентина насторожилась. Игнат же с воодушевлением продолжал:
— Я не требую отчитываться во всех своих тратах, но, согласись, ты невозможная транжира! Мы должны жить более экономно, как мама, например, она гораздо опытнее тебя в хозяйственных вопросах. Во-вторых, когда мы еще раз официально зарегистрируем брак, ты пропишешь нас здесь, меня и маму, поскольку в столице с работой без прописки – сама понимаешь… И в-третьих… Зачем ты каждый день покупаешь свежую французскую булку?
— О! Это маленькие женские слабости! – одними губами улыбнулась Валентина.
Не чувствуя ее убийственной иронии, Игнат увлекался все больше:
— Какие еще слабости? Чай, не барыня, чай со свежей булкой хлестать чашками! И потом, ты хоть помнишь, сколько тебе лет?
— Поменьше, чем тебе! – с вызовом ответила Валентина.
На этот раз толстокожий Игнат почувствовал некие флюиды исходящей от бывшей жены угрозы, но, неукоснительно следуя данным милым другом маменькой наставлениям, гласившим, что любую крепость можно взять нахрапом, с трусливым воодушевлением заявил:
— Да, но биологический возраст мужчины гораздо конкурентнее! Ты поглощаешь слишком много жиров и углеводов, говорю это как специалист, без пяти минут доктор химических наук! Всем известно, что вчерашний черствый хлеб гораздо полезнее, чем свежий! Даже если булочка заплесневела, подыспортилась чуть-чуть – поскреби ее ножиком, гренки сделай… Ты же кулинар от бога, Валентина, готовишь почти так же хорошо, как моя мама… И еще, Валентина, не смей выливать использованное подсолнечное масло – это безумное расточительство!
— Все? – Валентина с напускной кротостью смотрела на бывшего будущего мужа.
— Нет! Ты должна оставить свою смешную, дурацкую, жалкую, идиотскую привычку надевать зимой поверх сапог носки! Это верх неприличия, в конце концов! – с надрывом выкрикнул Игнат, демонстрируя, как и недипломатичный дипломат Карп, непонятную щепетильность относительно последнего пункта.
Валентина еле сдерживала смех:
— Слишком много условий, Игнат, боюсь, не запомню всего…
— Я и это предусмотрел! – Игнат на крыльях надежды полетел к своему саквояжу.
Он осторожно отодвинул в сторону тонко зазвеневшие чашки и положил на край стола стопку с текстом, напечатанным мелким убористым шрифтом. Валентина достала из прозрачного перфорированного файла несколько скрепленных степлером листков брачного договора и, к вящей радости Игната даже не пробежав глазами документ, сказала:
— Это очень заманчивое предложение. Я буду после работы готовить, убирать, стирать, гладить, с удовольствием соглашаясь с ценными указаниями твоей маменьки… А какие чудные у нас будут вечера! Мы с тобой будем складывать бесконечные столбцы цифр, сверяя доходы и расходы, пытаясь выгадать пару-тройку рублей…
Игнат засуетился.
— А ты в это время будешь отлеживать себе бока на моем любимом диване, играя в детские стрелялки и дискутируя с телевизором, а перед моим приходом открывать диссертацию и сидеть, пялясь на клавиатуру и уже не находя на ней знакомых букв… А между делом будешь придирчиво подсчитывать стоимость съеденных мной продуктов и лицемерно сокрушаться о том, какой непоправимый вред я наношу своему здоровью невоздержанностью… Ну, кажется, трудно отрадней картину нарисовать, да, Игнат? – чересчур ласково спросила Валентина.
Игнат ввернул заранее прибереженную коронную фразу:
— Зато не будешь куковать в одиночестве!
— А это сильный аргумент! – она снова подхватила листки с брачным договором. – Где подписываться? Наверное, кровью надо?
— Да нет, зачем? – удивился бывший муж, абсолютный гуманитарный невежда. – Можно чернилами…
Он достал из кармана потертого пиджачка дутое золотое колечко и театрально опустился на одно колено, предварительно аккуратно поддернув штанину.
Валентина с веселым изумлением узнала грошовое ювелирное изделие, которое Игнат подарил ей перед свадьбой, а потом, покидая жену навсегда, затребовал обратно, прежде чем завернуться в плащ из коричневого кожзаменителя и уйти из дома в сырую ночь.
17.
Когда-то, лет тринадцать назад, нынешний претендент на ее руку и сердце точно так же коленопреклоненно стоял перед ней, протягивая это же незатейливое кольцо из красного золота, будто неумело играющий героя-любовника престарелый актер-неудачник из очередной дешевой отечественной мелодрамы.
Как потом узнала Валентина, драгоценную вещицу подсунула Игнату одна из крикливых соплеменниц незабвенного Будулая.
Она дежурила в подземном переходе, не давая прохода спешащим по своим делам людям, которые с раздражением отмахивались от нее, как от назойливой осенней мухи.
Хищно вздернув густые брови с аляповатым татуажем, мошенница со стажем выхватила из снующей мимо толпы хмурое лицо потенциальной жертвы, наметанным глазом профессионального знатока человеческих душ узрев на нем легкую тень неких сомнений.
— Стой! Подожди, яхонтовый, не спеши! – схватив его за рукав, завизжала благородная дочь кочевого народа, словно после кратковременного визита к инквизитору ее волокли на костер не знающие жалости изуверы, состоявшие на службе у тезки Игната – пламенного иезуита, практиковавшего испытание пламенем для ее коллег-ведуний.
Погруженный в свои мысли простофиля — интеллигент, живо идентифицированный охотницей как объект легкой наживы, с удивлением повернул свою изможденную хроническим недосыпом нордическую физиономию к бронзовому челу восточной женщины, сжавшей, как клещами, его локоть. Впившись в него демоническим взглядом черных глаз, затянутых целлофановой пленкой повседневной лжи, она технично обездвижила добычу, крепко прижав к отделанной розовым известняком стенке. Эротично приподняв верхнюю губу, над которой пробивались черные усики, как у молодого поручика-поэта, сраженного недрогнувшей приятельской рукой на гостеприимной кавказской земле, цыганка интимно приникла к его уху:
— Ай, рубиновый мой! Вижу, серьезный шаг обдумываешь! Правду говорю?
— Правду, – задохнулся от мистического ужаса Игнат, сбитый с толку ее сверхъестественной осведомленностью.
— Все, что на роду написано, скажу, всю правду открою, изумрудный мой! Только позолоти ручку!
— Что? – переспросил недогадливый Игнат.
Отпустив рукав приезжего провинциала, бывалая мошенница широко разинула ярко накрашенный алый рот и заржала, как старая лошадь, украденная в деревне кочевниками и после неких косметических процедур перепроданная прежнему хозяину ради смеха, – даже эхо шарахнулось от нее и испуганно заметалось под низкими сводами подземного перехода.
Все еще смеясь и демонстрируя набитый золотом рот, который вполне мог составить конкуренцию золотовалютным запасам какой-нибудь небольшой восточноевропейской страны, пройдоха извернулась и ловко выдернула с лысеющей головы ничего не подозревающего лоха бережливо зачесанный за ухо волосок.
— Ай, алмазный мой! Достань из своего толстого кошелька крупную купюру и заверни туда этот волос!
Упоминание о денежных знаках незамедлительно должно было отвести скуповатого Игната от точки невозврата, однако операция по изъятию первой ассигнации прошла на удивление гладко. Вполне созревший клиент послушно выудил из кармана пиджачка потрепанное долгой жизнью кожгалантерейное изделие, из последних сил имитировавшее крокодила и, трусливо бегая глазами, с выражением муки на лице положил в протянутую руку сторублевую купюру. Целительница душевных недугов опять разразилась визгливым хохотом и, сотрясаясь телесами, бренча бессчетными украшениями, завернула в ничего не стоящую бумажку тонкий волосок Игната.
Небрежно скомкав купюру, продувная бестия подула на нее и, заговорщически сдвинув брови, собравшиеся над переносицей, как два вороновых крыла, пробормотала какую-то абракадабру, поглядывая на храбро жавшегося к стенке клиента.
— Женщина! – каркнула она, закончив свой ритуал – Во всем виновата женщина! Правду говорю, брильянтовый мой?
— Да! – пискнул пересохшим горлом потрясенный Игнат и тотчас открыл всю свою подноготную, выдав доморощенной психологине исчерпывающую информацию для дальнейших махинаций:
— Жениться хочу …
— Все вижу, яхонтовый мой, все скажу! – ведунья повторялась, очевидно исчерпав свои знания о довольно обширном перечне разновидностей драгоценных и полудрагоценных минералов. – Даже не сомневайся, будет твоя жена работяшшая, не пьюшшая, не гуляшшая… Колечко тебе дам заговоренное – все у тебя будет, все получится…
Она попросила другую купюру, более достойного достоинства, а потом еще – пока весь кандидатский аванс Игната, спев известный романс, не перекочевал в ее необъятные карманы.
Волшебное колечко тут же было явлено смятенным взорам Игната после непродолжительных поисков в складках широкой цветастой юбки, в коих прекрасная половина никогда не унывающего племени со времени сотворения этого бренного мира стоит на всех перекрестках Земли…
Очарованный, околдованный, все еще окутанный туманом сладостного обмана, кандидат на вакантное место супруга упруго взлетел по ступенькам, зажимая в кулаке, словно талисман, заговоренное цыганкой колечко.
Валентина согласилась тогда на его предложение: малоприятные воспоминания о первом муже с высокогорным именем Казбек почти полностью стерлись из ее памяти, и морально она была готова снова ступить в бурные воды, в которые, как утверждается, почему-то нельзя войти дважды. Однажды это должно было случиться. Десятилетняя дочка Карина, с удовольствием проводившая каждое лето у бабушки, уговорила Валентину оставить ее в селе и теперь ходила в местную школу, не доставляя никаких хлопот и вдобавок присматривая за хворавшей старушкой.
Валентина, к которой судьба упорно не стучалась, пока ей не стукнуло сорок лет, не очень уверенно сказала:
— В сорок жизнь только начинается, — пытаясь убедить, главным образом, себя в обоснованности этого совершенно необоснованного утверждения, ставшего после выхода оскароносного фильма чуть ли не аксиомой.
Согласие Валентины Игнат предложил отметить не в ресторане или каком-либо другом менее статусном заведении общественного питания, а в городском парке, что немного смутило немолодую уже, как говорится, молодую.
Туда они незамедлительно и отправились, еще стесняясь друг друга и мучительно заполняя долгие паузы спасительными замечаниями о погоде. Но чем дальше они углублялись в девственные дебри близлежащего парка, тем разговорчивее становился Игнат. Сначала с каким-то мазохистским удовлетворением он поведал невесте о фатальных ударах судьбы, выпавших на долю провинциального ученого с большим, без сомнения, будущим, о препонах завистливых коллег, в упор не замечавших его достижений, о пошатнувшемся здоровье, подорванном стоическим трудом во славу науки. Потом жених поделился и подробностями своей обширной, надо думать, истории болезней, о которых он рассказывал с особой торжественностью, поглядывая на нее кротким взглядом подопытного грызуна:
— Вы знаете, Валентина, частенько меня беспокоят какие-то неприятные ощущения в области прямой кишки… а после еды в низу живота что-то ходит, ходит… а потом позывы к дефекации… И так по несколько раз на дню. И стул какой-то жидкий, с резким запахом… У вас так не бывает, Валентина? Мне кажется, это следствие нервных перегрузок…
Валентина, не ожидавшая на первом свидании столь подробного описания хронических заболеваний вкупе с детальным отчетом о жизнедеятельности всего его организма, промолчала, но отчего-то именно тогда на уровне подсознания впервые почувствовала некий дискомфорт.
Мрачный урбанистический закат заалел в окнах последних этажей столичных высоток, а потом одел притихшие небоскребы в однообразные серые робы. Когда ночь, как подкошенная, ничком упала на аллеи парка, не наблюдавшие часов счастливые влюбленные сели на кованую скамейку, уютно расположившуюся на гнутых ножках под раскидистой кроной одинокой липы, освещенной гроздьями стилизованных под старину фонарей.
Там, непринужденно закинув ногу на ногу, Игнат продолжил увлекательное повествование о своем аппендиците, плавно перетекшем в перитонит вследствие явной халатности людей в белых халатах, – по сравнению с этой кровавой резней на хирургическом столе техасские национальные развлечения с расчленением бензопилой заблудших туристов казались похожими на детские игрушки.
На самом интересном месте, где врачи-вредители чуть не забыли в его отмытой спиртом кристально чистой брюшной полости какой-то не очень стерильный посторонний предмет, раздалось меркантильное урчание пищеварительной системы Валентины, звучно выражавшей недовольство длительным простоем. Простой, как булыжник, Игнат на этот раз понял, что дал маху, и горько сдвинув короткие бровки, побрел по направлению к павильонам, откуда доносились ароматные запахи прогорклого масла и несвежих сосисок.
Под липу он вернулся быстро, держа в одной руке кипу салфеток, а в другой один-единственный бутерброд. Перехватив ее недоумевающий взгляд, Игнат выразил благородную готовность честно поделить последний гамбургер, якобы с боем отбитый им у какого-то неприятного субъекта. Униженная и оскорбленная, Валентина, однако не подав вида, отказалась от своей половины бутерброда, сославшись на отсутствие аппетита.
Виновато отводя блеклые голубые глазки, он принялся за освоение не самого удачного творения общепита – мягкой, как вата, и такой же безвкусной булки с отдающей керосином резиновой котлетой, единственным достоинством которой был тот неоспоримый факт, что для ее приготовлении не совершался негуманный акт заклания какого-либо животного.
Элегантно отправив в рот весь бутерброд, щедро начиненный транс-жирами, глутаматами и прочими радостями быстрого питания, Игнат, галантно извинившись перед дамой, вскочил со скамейки и, явив чудеса метаболизма, помчался к зазывно мигающим огнями биотуалетам, как эстафетный бегун, сжимая в руках сэкономленные салфетки.
Тем временем червячок сомнения, с самого начала точивший Валентину, разросся до тропической змеи средних размеров и, как ее библейский пращур-искуситель, трагически шипел то в одно, то другое ухо: «Открой глаза свои, женщина! Открой глаза!» Но Валентина, с рождения носившая в себе проклятие конформизма, решила не умножать сомнения, тем самым умножая скорбь, и закрыла глаза на настойчивые увещевания разума.
На одной из посиделок в уютной домашней обстановке, которые Анжелка называла встречами без бюстгалтеров, они с налетом легкой грусти, подогретой парой бокалов дербентского коньяка, вспоминали университетскую молодость, лучшие желанья и свежие мечтанья, истлевшие бурной чередой, как листья осенью гнилой…
— Что может быть печальнее одинокой женщины не первой свежести? – вздыхала Анжелка, с удовольствием налегая на приготовленную Валентиной курицу с аппетитно хрустящей поджаристой корочкой. – Но поставь своего избранника рядом с Саней, и ты поймешь, что этот сморчок тебе даром не нужен!
Свадьбы как таковой у них не было, но это не рядовое событие молодожены отметили вдвоем в уютном семейном гнездышке – двушке Валентины – бутылкой шампанского и, как говорится, стали жить.
Потом в одной из аудиторий бывшего профтехучилища, претенциозно переименованного в колледж, (где и пересеклись судьбы молодых) студенты выцарапали гвоздем на доске: «Игнат жИнат!» – обнаружив если и не орфографическую безупречность, то глубокую осведомленность в перипетиях личной жизни своих преподавателей.
18.
Усмехнувшись, Валентина поднялась:
— Спать пора, я тебе на раскладушке постелю, а завтра, будь добр, уезжай-ка отсюда от греха…
— Раскладушка – раскладушечка, – с пионерской готовностью пропел он, пропустив мимо ушей ее последние слова, – весьма непростая наука услышать друг друга всегда была слабым местом кандидата наук Игната.
Как бы невзначай оставив колечко на столе, он рысцой последовал за Валентиной – в залоснившемся рукаве его серого выходного пиджачка в елочку был припрятан козырный туз.
Валентине снилось, что она загорает на берегу мягко плещущего на берег моря, держа в руках огромную пиццу размером со столешницу ее журнального столика. Тучи чаек, косо поглядывая на нее, в напряженном ожидании качались на волнах, как в апокалиптическом фильме признанного мастера психологического триллера, повествующем о пернатых, ожидаемо взбунтовавшихся против засилья людей. Когда Валентина отвернулась, чтобы напиться, все птицы взмыли в воздух и, накинувшись на пиццу, мигом склевали ее, а потом какими-то странными, мягкими, будто гуттаперчевыми, клювами принялись тыкаться в ее тело, доверчиво открытое южному солнцу.
Она проснулась, не понимая, где сон, а где явь, и, обнаружив лихорадочно копошащегося на своей груди Игната, со смехом попыталась его спихнуть:
— Ты что, Игнат, спятил? А ну марш на свою раскладушку!
Однако Игнат и не думал отступать: после непродолжительной постельной баталии он завладел Валентининой талией и, с трудом удерживая отвоеванную территорию, приник мокрыми губами к ложбинке ее груди, раздольно раскинувшейся под расстегнутой ночной рубашкой, с какими-то нехорошими предчувствиями прислушиваясь к своему своенравному организму.
Благородное и очень здоровое сердце работало исправно, как движок старого, но проверенного временем раритетного ретро-автомобиля ГАЗ -21.
Отличные легкие с легкостью осуществляли функцию газообмена.
Не шалила печень без признаков камней, прекрасно справляясь с обезвреживанием и удалением токсичных отходов обмена веществ.
Желудочный сок с содержанием 0,5-процентного хлористого водорода, в простонародье называемого соляной кислотой, бодро плескался о слизистые стенки главного пищеварительного органа, переваривая тяжеловатый для позднего ужина плов и дюжину печенюшек.
Но явно что-то не ладилось с системой кровообращения. Кровь, которая должна была бурными потоками приливать к определенным органам, наполняя их упругостью и силой, категорически отказывалась действовать в этом направлении, несмотря на поистине титанические усилия Игната. И, отнюдь не твердея в умысле своем, он сделал вид, что внял призывам Валентины, дабы не опозориться совсем, и, спустив ноги на пол, сказал:
— Я порядочный человек, Валентина, и никогда не сделаю этого против воли женщины…
С видом оскорбленного достоинства, но жестоко изнывая в душе, Игнат потопал великоватыми тапками из спальни.
Напрасно он столько одиноких ночей лелеял в душе преступный замысел – крепость осталась неприступной. Его карта бита пиковой дамой – припасенный в рукаве туз сыграл с ним злую шутку, как и с бедным офицером, любителем легкой наживы, опрометчиво вверившим свою судьбу сомнительной магии трех карт.
Когда за злополучным ночным посетителем с легким скрипом закрылась дверь, Валентина повернулась на бок и подумала:
— Петли надо бы смазать… А бремя своей недвижимости неси, пожалуйста, сам, без меня…
Когда на другой день Валентина вернулась домой после очередных прений со студентами, пытавшимися по привычке подменить процесс образования товарно-денежными отношениями, ее встретило уютное жужжание пылесоса. Нацепив хорошо знакомые ей допотопные синие треники со вздувшимися коленками, Игнат с привычной сноровкой пылесосил мохнатый персидский ковер в зале – видимо, он разыгрывал еще одну козырную карту, напоминая ей о своей пресловутой аккуратности.
Валентина надела удобные домашние туфли, в очередной раз вспомнив добрым словом Глафиру. Услышав переливы звонка, она открыла дверь и, увидев на пороге только что помянутую соседку, усмехнулась про себя: «А вот и она!»
Дыша духами и туманами, Глафира легче ласточки впорхнула в прихожую и с любопытством уставилась на хозяйку, загадочная, как Хина Члек, таинственная муза не только халтурщика-поэта, певца Гаврилы, но и главного футуриста страны, посягнувшего в пресловутой борьбе с авторитетами и на семейные дуэты.
Запахнув на стоячей силиконовой груди роскошный полушубок необыкновенного жемчужного цвета, она прислушалась к явным признакам чужого присутствия в квартире одинокой женщины и прошептала:
— Валентина Адамовна, к вам приходил мужчина…
— Сантехник Вася?
— Нет, это был ваш позавчерашний гость… среднеазиатской наружности…
— И что же ему было нужно, гостю среднеазиатской наружности? – искренне удивилась Валентина.
— Он был с багажом…
— С каким багажом? – все больше изумляясь, спросила Валентина.
— Вещи, вещи, чумадан у него был! – удивляясь ее непонятливости, объяснила уже десять лет обитавшая в столице Глафира, доказывая правдивость утверждения о том, что не всегда может повезти при попытке увезти девушку из сельской местности.
— Какие вещи?! – воскликнула Валентина.
— Вам лучше знать, какие вещи! – пожала плечами Глафира, – он сказал, что будет жить здесь, и занес ко мне чумадан…
У Валентины от волнения закружилась голова, предвещая неминуемые проблемы с сосудами. Глафира, фыркнув, втащила за ручку стоявший за дверью допотопный дерматиновый чемодан с блестящими латунными уголками, петлями и замками:
— Разбирайтесь сами! Он позвонил к вам, но дверь ему никто не открыл. Поэтому оставил вещи у меня. Сказал, что придет вечером. Хотя, я вижу, у вас и так наблюдается оживление в личной жизни…
Она многозначительно кивнула в сторону комнаты, где надрывно гудел пылесос, требуя незамедлительной смены бумажного пылесборника, и, бросив удовлетворенный взгляд на свое отражение в зеркале, обернулась к хозяйке:
— Как вам моя новая шубка?
Валентина, усмехнувшись, предложила известную версию принадлежности прекрасного меха не столько экзотическому, сколько мифическому пушному зверю:
— Мексиканский тушкан?
— Шиншилла, темнота! – возмутилась дремучая Глафира и, виляя тугим задом в восхитительных штанах из суперуспешной второй линии бренда «Армани», длинноногая, как манекенщица, выпорхнула из квартиры, мелькнув красными подметками лабутенов.
— А у вас давеча удачная все-таки была рыбалка! – крикнула она с лестничной площадки.
Валентина озадаченно посмотрела на скромно притулившийся в углу ветхий чемоданишко, судя по виду, верой и правдой служивший не одному поколению искателей лучшей жизни, – с какой стати незнакомый мужчина решил, что у нее можно обосноваться? Никакого повода для таких надежд она ему не подавала. Пожав плечами, она открыла холодильник: нужно было безотлагательно накормить ужином и выпроводить вон еще одного нежелательного элемента – претендента на ее сердце и квадратные метры.
В это время претендент, закончив уборку, с видом знатока ковырялся в розетке, периодически саботировавшей процесс бесперебойного протекания тока в электрической цепи. Вдруг Валентина услышала придушенный вопль и, решив, что несчастного поразило беспощадное к дилетантам электричество, побежала в прихожую. Там она и застала его с давешним гостем азиатской наружности: пыхтя и отдуваясь, они перетягивали друг у друга принесенный Глафирой чемодан.
— Представляешь, – повернул к ней Игнат багровое с натуги лицо, крепко обнимая потертые дерматиновые бока чемодана, – не успел я дверь открыть, а он цап его – и бежать! Хорошо, успел его поймать за куртку… Звони в милицию или, как ее там… в полицию, скорей!
— Это не васе! – с силой дернув к себе чемодан, гость оторвал его ручку – неумолимые физические законы бытия повлекли его в сторону, пропорциональную приложенным усилиям, и швырнули вверх тормашками в дальний угол прихожей. Те же обстоятельства непреодолимой силы подействовали и на его соперника: он разразился было мефистофельским смехом, но опрокинулся на спину и, придавленный тяжелым трофеем, пискнул и затих, как неуловимый диснеевский мышонок, расплющенный своими амбициями в виде украденного из хозяйского холодильника цельного круга сыра.
Первым подал признаки жизни среднеазиатский мужчина – он сел, для упора прислонившись к стенке, и, скосив на хозяйку увлажнившиеся черные глаза, сказал с укором:
— Я хотел по-хоросему… Зениця хотел…
На хмуром лице Валентины не отразилось и следа энтузиазма по поводу этого лестного предложения, и незваный гость несолоно хлебавши отправился на вольные хлеба, прижимая к тощему животу чемодан без ручки.
Игнат, тяжело поднявшись, поплелся на диван, и, отлежавшись, начал таскаться за Валентиной по всей квартире, допытываясь о личности сбежавшего соперника с пристрастием мастера заплечных дел из мрачного учреждения, полвека державшего в страхе одну шестую часть суши:
— Как?! Меня, без пяти минут доктора наук, ты променяла на какого-то тонконогого дворника!
Он принюхался к запахам из кухни и тотчас отчалил от скалистых берегов печали:
– Валентина, ты готовишь курицу? – но заноза в седалищных мышцах снова напомнила о себе:
— А кто еще этот таинственный Вася?
Таяла его заветная мечта о беспечальном существовании при домовитой женщине, обладательнице не только большой белой груди и работы, но и недосягаемого кулинарного таланта, – и все из-за какого-то мигранта! Питательный ужин на время отвлек Игната от грустных мыслей о заместителе, но, удовлетворив свои базовые физические потребности и покинув санузел под грохот спущенной воды, он снова заныл:
— Подумай, Валентина, ведь я был тебе не самым плохим мужем…
Тут некстати он вспомнил о своем ночном фиаско и затосковал…
Игнат уныло стоял у выхода в своем сером выходном костюмчике в клеточку, еще надеясь на отмену вердикта, но заверещавший звонок прервал его тягостные размышления. Скинув немилосердно шаркавшие тапки, он подкрался к двери и, посмотрев в глазок, метнул на бывшую жену испепеляющий взгляд:
— Ты стремительно падаешь в моих глазах, Валентина!
Рывком открыв дверь, он сразу же оглушил гостя вопросом:
— Вася?
— Допустим, – не растерялся сантехник-алкаш, все еще алкавший материальной компенсации вкупе с моральной, – а ты кто такой?
— Родственник!
— Гони долг, родственник, мне Валентина двадцать кусков должна…
— Долларов? – Игнат чуть не испустил дух прямо на пороге.
— Могу и валютой взять, – довольно осклабился его собеседник. – Могу даже натурой… хотя Валентина и пожил… ммм … пожившая баба, но для строевой службы еще вполне сгодится!
Протяжно взвыв, Игнат бросился ему на грудь, как пустыни вечный гость, могучий барс, и, вцепившись в густые, слегка вьющиеся кудри, прохрипел осипшим от собственной смелости голосом:
— Это моя женщина, моя!
Стихийный конфликт продемонстрировал полную несостоятельность интеллигенции как класса. Мозолистыми руками, только слегка пострадавшими по вине Валентины, сантехник без труда отодрал от себя будущего доктора наук и, подняв его за шкирку, принялся трясти с максимально возможной интенсивностью.
Редкие веснушки на носу Игната стукнулись друг об дружку и посыпались вон с побелевшего лица, под ложечкой противно заныло, а в кармане пиджачка зазвенела мелочь, экономно заготовленная для проезда в маршрутке. Шутки шутить Василий не собирался – не очень бережно опустив оппонента на квадратные плиты лестничной площадки, он еще раз встряхнул его для острастки и впился в него выпученными голубыми глазами с азиатским разрезом:
— Пусть твоя женщина сей же момент вернет мне долг!
Представитель интеллектуальной элиты, которая, как известно, не любит риска и переобувается довольно быстро, на лету, оправился, как курица, изрядно потоптанная петухом – султаном птичьего двора – и шагнул в квартиру:
— Валентина, это к тебе!
Стоявшая за дверью Валентина спросила невинным тоном:
— Игнат, не хочешь разделить со мной бремя этого неподъемного долга?
Пробормотав что-то нечленораздельное, Игнат устремился на кухню и уже оттуда, на безопасном расстоянии, слушал околофинансовую дискуссию, напоминавшую горячие прения депутатов Государственной Думы по поводу отчислений на здравоохранение из насквозь секвестрированного бюджета. В конце концов покалеченный пролетарий, опасаясь вовсе пролететь с компенсаций, согласился обсудить привычный вариант оплаты своего труда – алкогольный бартер. Внимательно посмотрев на свет предложенный Валентиной кенигсбергский коньяк цвета благородного янтаря, без проблем превращающий любого тихоню в маньяка или по крайней мере в бунтаря, он, вполне удовлетворенный, удалился, обдумывая, как бы утаить добычу от своей вездесущей Машки.
По возвращении Валентины Игнат поднял на нее робкий ученический взгляд и, приложив ладонь ко лбу, сделал мученическое лицо:
— Что-то мне нехорошо, Валентина, кажется у меня температура…
Игнат только выглядел заморышем, на самом же деле обладал отменным здоровьем, что не отменяло, впрочем, систематических атак сезонных простудных заболеваний. Болеть он любил и делал это основательно и страстно. При первых же предвестниках недомогания спешно начиналась спасательная кампания: Игнат загромождал журнальный столик отрядом пузырьков и таблеток с яркими этикетками и удобно устраивался на кушетке, млея под лаской плюшевого пледа.
Лишь в болезни ему удавалось то, что не получалось в здравии, – узурпировать не только пульт от телевизора, но и законодательную власть в отдельно взятой квартире. Слабым голосом, смиренно, как умирающий инок, он каждые полчаса призывал к одру сомнительной кончины Валентину, которая должна была измерять ему температуру, давление, слушать тоны сердца и на бумажке подробно фиксировать показания. А если ошалевший от частого употребления ртутный столбик упрямо застревал на отметке в тридцать семь градусов, тут же у больного начиналась настоящая паническая атака:
— Это субфебрильная температура! Самая опасная! Вызывай врача!
— Хочешь, анекдот расскажу, Игнат? Мужика с температурой тридцать семь градусов легче бросить и забыть, чем вылечить…
— Мне не до твоих дурацких шуток! Скорую, скорее!
На резонные доводы Валентины о том, что служба неотложной медицинской помощи не отвлекается по таким пустякам, он жаловался загробным голосом:
— Вот уже ноги отнимаются… Холод поднимается выше… Пульс слабеет…
После очередного такого приступа Валентина попарила ему ноги в содовом растворе и, напоив горячим чаем с медом, уложила спать, велев ему хорошенько пропотеть.
Ночью она проснулась, услышав громкий шепот мужа:
— Валентина, ну сколько можно звать? Оглохла? Почеши мне щеку!
— Игнат, у тебя вроде только ноги отнялись! Не руки же! – возмутилась Валентина, с неохотой открыв глаза – ей как раз снились одетые пеленой тумана спящие вершины Кавказа.
— Ты же сама велела мне пропотеть, я руку высунуть не могу из-под одеяла – весь эффект пропадет…
— Да ну тебя! – отмахнулась было Валентина, но в этот неурочный час в сердце неожиданно постучалось милосердие, и она потянулась к мужу.
— Да не эту! Левую! – с досадой прошипел Игнат.
— Если тебя попросили почесать левую щеку, почеши и правую, – спросонок пробормотала Валентина и, отвернувшись, упала на подушку…
Уличенный не без помощи термометра в одной из самых распространенных разновидностей лжи – наглой лжи – мнимый больной напоследок навязал Валентине тягостную дискуссию о судьбе русского либерализма, не имеющего никакой поддержки с ее стороны, но был безжалостно выставлен из квартиры, невзирая на его личную драму, малокровие и душевную депрессию.
19.
Валентина заперла дверь и села перед телевизором.
На экране появилась молоденькая генеральша с ангельским личиком и волчьей фамилией – официальный представитель министерства, с которым шутить не принято. Она бесстрастно поведала о недавно обнаруженной полковничьей двушке, таившей в себе целые развалы денежных знаков неизвестного происхождения.
Особую интригу этому событию придавал тот факт, что виновник торжества представлял как раз то ведомство, в чьи обязанности как раз и входило жрать коррумпированных чиновников, выплевывая пуговицы. Но, как видно, победоносная война с коррупцией велась победоносиковским манером…
Тема эта уже вовсю муссировалось на всем информационном пространстве, вызывая небывалый ажиотаж, прямо скажем, вполне уместный: ну, заработал этот полковник непосильным трудом два лярда, ну, три, но не семь же миллиардов?!
Да уж, как-то по-новому, ярче, зазвучало крылатое выражение про ключ от квартиры, где деньги лежат…
Валентина переключила кнопку и попала на музыкальный канал. Расставив пальцы веером и молодецки ухая, отвязный орангутан в бейсболке, явно близкий родственник самого крупного представителя приматов, со странными интонациями декламировал не очень осмысленный текст об особенностях межполовых отношений в эпоху глобализации.
Сходство с человекообразными сородичами усиливали провисшие до земли штаны с так называемым смещенным седалищным швом – этот технологический нюанс разъяснил в своей модной передаче мэтр стиля, куртуазный и манерный, как аристократы позднего средневековья, сгоревшие в горниле самой великой из всех французских революций.
Валентина, чертыхаясь, потянулась за пультом, чтобы заткнуть хотя бы на время вызывающее одно расстройство бесполезное устройство, на беду придуманное бежавшим в цитадель свободы соотечественником, но замерла на полуслове.
На одном из кабельных каналов мелькали заполошные киношные сваты, за экранное воплощение которых гаранту соседней братской страны следовало бы воздвигнуть известный монумент из кинолент, и звучала едва ли не самая пронзительная песня ее юности.
На выпускном балу Валентина танцевала последний танец с одноклассником Артуром. Руки юноши трепетно держали ее за талию, как пугливую лань, а ладони девушки едва касались его плеч – танцующие находились друг от друга на расстоянии вытянутой руки (называлась такая диспозиция пионерским расстоянием) – то были времена, еще не утратившие нежную прелесть стыда…
Чистый высокий голос, надрывая сердце, тосковал о любви, робкие ростки которой пробились во время встреч под кленом, шумевшим над речной волной, о любви, увы, прошедшей, как сон…
Бессменный воздыхатель тоскливо заглядывал ей в глаза, догадываясь о произошедшей в ее душе необратимой трансформации, сердцем чувствуя отсутствие перспектив реанимации угасших отношений. Прекрасное далеко, которое определенно не будет к ней жестоко, уже манило девушку и сладко кружило голову, хотя временами ее накрывали волны безотчетного страха – еще не осознанного до конца страха новизны – и, как ни странно, сожаления о прошлом. Она еще не уехала из дома, но уже скучала по нему.
Артур оказывал ей знаки внимания еще в начальной школе. В ту счастливейшую пору, пролетевшую, будто метеор, они росли под бдительным оком Магиры Залимовны, прозванной Мегерой старшими школьниками, которые, к слову, периодически выходили из-под ее руки прекрасно подкованными на все четыре ноги.
Зато ученики начальных классов боялись ее как огня. Стоило строгой учительнице даже в неурочный час оказаться где-нибудь на большой дороге, как вся улица мгновенно вымирала, – младшие представители молодого племени в панике разбегались и отсиживались за импровизированными укрытиями, пока ее величественная фигура, достойная резца страдающего гигантоманией современного скульптора-монуметалиста, не растворялась в спасительных завесах пространства и времени. пространства и времени.
Однажды весь класс, затаив дыхание, слушал печальное послание героя, отданного дедом в подмастерья к ремесленнику и нещадно эксплуатируемого этим несознательным элементом. Старорежимные страсти тронули юного пионера Артура лишь отчасти – распираемый безразмерным счастьем, он пошел на немалый риск и с блаженной улыбкой обернулся к Валентине.
Мегера тотчас заметила посторонние брожения, не имевшие никакого отношения к увлекательному процессу накопления начальных знаний, и грозовые тучи, грозно громыхая, собрались над головами нарушителя дисциплины и невольной виновницы Валентины. Учительница прервала чтение как раз в том месте, где хозяйка устроила герою выволочку, отодрав его за волосы по причине грубого нарушения им технологии обработки отдельных представителей морской фауны. В звенящей тишине она встала и, сложив руки на груди, нависла над детьми, неумолимая, как невольник мести, презревший закон ради наказания бандитов, хладнокровно лишивших его любимой семьи и физической целостности, – этот культовый индийский фильм собрал недавно в сельском клубе поголовно всех жителей, включая парализованных старцев и грудных младенцев.
Не очень женственным движением подняв мальчишку за шкирку, мучительница влепила ему звучный подзатыльник – отлетев на несколько шагов, он ударился головой о доску и остался там стоять, мужественно зажимая ладошкой капавшую из носа кровь.
Затем Мегера пребольно оттаскала за волосы ни в чем не повинную Валентину в подтверждение того, что общественные отношения не претерпели никаких изменений со времен злосчастного чеховского героя.
Указующий перст с массивным перстнем в виде ладьи с кроваво-красным александритом, показал на дверь – Мегера как ни в чем не бывало отправила мальчишку умываться.
Телесные наказания тогда практиковались практически повсеместно, так же, как и в памятной коммунальной квартире, экономные жильцы которого как раз во время посещения концессионера бичевали рассеянного соседа с банно-прачечной фамилией, мучительно размышлявшего о значении русской революции и по этой веской причине не выключавшего свет в местах общего пользования.
Когда красный, как кумач, мальчик занял свое место, его большие оттопыренные уши пылали так же, как повязанный недавно пионерский галстук, ставший, казалось, еще алее от пролитой во имя первой любви юной крови.
После занятий Мегера, враждебная, словно несущий ядерные заряды линкор недружественного североатлантического блока, выплыла из класса, предварительно записав в дневники провинившихся грозное предупреждение родителям: «Улыбались на уроке! Примите меры!»
Артур, героически переживший варварские пережитки воспитания, торопливо сгреб в рюкзак свои канцелярские пожитки и на виду у всех, не таясь, взял портфель Валентины. Третьеклашки еще не ведали насмешек и издевательств – этих верных спутников первой робкой любви, их однокашники еще не успели обзавестись тем прелестным изъяном, когда, заметив малейшие знаки внимания друг к другу, дети начинают прыгать вокруг несчастных, как стая диких обезьян, с воплями: «Тили-тили тесто! Жених и невеста!»
Распахнутая дверь школьного буфета, манившего запахами какао и горячих булочек, затянула их, как черная дыра, гравитационное притяжение которой не в состоянии преодолеть даже объекты, движущиеся со скоростью света. Держась за руки, Артур и Валентина шагнули в полупустое помещение и, наткнувшись на широкую спину уборщицы Дуси по прозвищу Дуст, энергично возившей по каменному полу тряпкой, робко, бочком прошли мимо.
— Куда по мокрому?! – гаркнула она вслед детям, воинственно потрясая шваброй, на перекладине которой колыхалась, как знамя, пахнущая прелью влажная мешковина.
 Но те были уже на безопасном расстоянии и зачарованно двигались вдоль стойки, разглядывая разложенные в картонные коробки пряники, продававшиеся поштучно по пять копеек, маленькие упаковки вафелек, стоивших двенадцать копеек, и, наконец, остановились у полки, где неровными стопками были разложены вкуснейшие коржики по восемь копеек.
Но те были уже на безопасном расстоянии и зачарованно двигались вдоль стойки, разглядывая разложенные в картонные коробки пряники, продававшиеся поштучно по пять копеек, маленькие упаковки вафелек, стоивших двенадцать копеек, и, наконец, остановились у полки, где неровными стопками были разложены вкуснейшие коржики по восемь копеек.
Медлительная, вечно сонная и склонная к полноте в свои неполные двадцать три года, к тому же еще и беременная, буфетчица Лаура, невестка соседки Розы, смерила детей равнодушным взглядом и вновь повернулась к торопливо допивавшей чай молоденькой математичке. Оглянувшись на навострившую уши уборщицу, имитировавшую бурную деятельность в опасной близости, Лаура перешла на шепот:
— Ты не поверишь, Мадиночка, что мне на это сказала свекровь…
Валентина была осведомлена, что военные действия в семействе Розы, увы, не ограничивались супружескими сражениями местного значения: эстафету ожидаемо подхватили и невестки, без всякого промедления открывшие второй фронт, в отличие от осторожных союзников – англосаксов, которые не торопились с этим важным делом, взвешивая аргументы за и против и исподтишка наблюдая за тем, в чью сторону качнется чаша весов.
Судьбе было угодно, чтобы двое сыновей Розы женились в один день на девушках с почти одинаковыми именами, столь же одинаково непривычными для слуха, – звали их Луара и Лаура. Вдобавок ко всему, они не ладили ни друг с другом, ни с мужьями, ни со свекровью и даже сами с собой были явно не в ладу.
Ежедневно кто-нибудь из них прибегал к услугам третейского судьи – свекрови, требуя защиты чести и достоинства, а то и кровной мести. Но весьма тяготившаяся этой ролью Роза, каждый раз застигаемая врасплох абсурдностью их претензий, была не в состоянии даже выговорить имена снох, не то чтобы вынести Соломоново решение, которое устроило бы их обеих.
Исчерпав все возможности для разрядки напряженности, старуха, брызжа слюной и заикаясь с досады, разводила их по разные стороны семейной баррикады:
— Ты, Лу… Лар… Тьфу! Луара, иди домой, а с тобой, Ллл… Черт бы вас побрал с вашими дурацкими именами! С тобой, Лаура, я еще поговорю!
Сепаратные переговоры с невестками обычно приводили к достижению хрупких мирных соглашений, но вот вдруг одной из Луариных серебристых курочек взбредало в ее куриную голову пробраться на вражескую территорию, подрыв лаз по забором, и оставить на только что вымытом крыльце Лауры неопровержимые доказательства подрывной деятельности – тотчас все договоренности аннулировались, и все начиналось сначала…
Когда становилось невмоготу на этом, как и Западном, не ведающем перемен фронте, Роза дезертировала к Валентининой бабушке.
Именно здесь старуха укрепляла свою расшатанную нервную систему, поглощая в чрезмерных количествах булочки, пирожки и прочие богатые углеводами мучные изделия. Удобно развалившись на старом, но еще крепком кожаном диване с высокой спинкой, в узорчатый верх которой было вставлено потемневшее от времени зеркало, соседка, нисколько не подобревшая от сдобы, обсасывала любимую тему с конфетами «Снежок», приберегаемыми бабушкой для Валентины. Несмотря на полное отсутствие во рту приспособлений для дробления твердых пищевых продуктов в виде зубов или хотя бы протезов, Роза чуть ли не килограммами уничтожала эти железобетонные карамельки, перекатывая их языком, словно речные камешки.
Сладости неведомым образом создавали у нее иллюзию голода, поэтому заедались опять плюшками и пирогами. Апофеозом трапезы становилось вишневое варенье с чаем – и без того тучная Роза, нисколько не беспокоясь о несварении желудка, доверху накладывала себе в глубокую миску любимое лакомство. Очень скоро перед ней на подносе с черно-желтой жостовской росписью вырастала шаткая груда вишневых косточек, похожая на пирамиду черепов с репродукции картины, висевшей в кабинете истории и сурово клеймившей захватнические амбиции ненасытных завоевателей – прошедших, настоящих и будущих.
Прихлебывая только что снятый с плиты обжигающий кипяток, Роза сообщала соседке оперативные сводки с театра военных действий, полные пессимистических прогнозов.
Эти маленькие трагедии, казавшиеся со стороны чуть ли не комедиями, заставили бы рыдать от зависти знаменитого на весь мир драматурга, автора четырех десятков пьес о наиболее изощренных и непостижимых способах сосуществования связанных родственными узами людей.
Изложив собственную версию причинно-следственных связей в семейных распрях, Лаура умолкла и пригорюнилась. Еще не познавшая матримониальных радостей счастливая математичка, допив свой чай, поспешила к оставленным после уроков лоботрясам, не оказав Лауре никакой весомой моральной поддержки.
Вздохнув, буфетчица обратила внимание на маявшихся у стойки детей, которых уборщица, вполголоса осыпая проклятиями, уже потихоньку подталкивала шваброй к выходу. Артур судорожно перебрал скудную мелочь в кармане и, положив на стойку две десятикопеечные монеты, указал на вожделенные коржики. Лаура выложила на прилавок два восхитительных круглых печенья с дырочками посередине и, бросив монетки в железную ячейку громоздкого кассового аппарата, с холодной невозмутимостью сложила полные руки на выпирающем животе, всем своим видом показывая необратимость экономической формулы «деньги – товар».
Вся школа знала, что Лаура никогда не отдает мелкую сдачу, – вот и сейчас она удержала с каждой монетки по две копейки, неразумно полагая, что ничтожность присвоенной суммы освобождает ее как от моральной, так и от уголовной ответственности.
Как-то старая Роза за чаем похвасталась бабушке: мол, с одной только недоданной детишкам мелочишки сноха зашибает «шабашку», доходящую до двадцати рублей в месяц, но, спохватившись, запричитала:
— Да какие в школьном буфете прибыли!
Нежные отношения ребятишек не дали трещину даже после щедро отвешенных воспитательных затрещин – напротив, телесные наказания чудесным образом еще больше сплотили их. Улыбаясь друг другу от избытка беспричинной радости, они пошли по залитой солнцем улице в тени буйно цветущих конских каштанов, чинно похрустывая весьма питательными коржиками, приготовленными исключительно из натуральных продуктов, без добавления консервантов и усилителей вкуса.
Из сельского клуба жизнерадостно рокотал необыкновенный баритон соловья советской эстрады и мощно высвистывал свое соло маленький волшебник белой рощи – славный птах – орнитологическое и грамматическое недоразумение. Потом из динамиков полилась не очень веселая песня «Веселых ребят» о страданиях несостоявшегося адресата – где-то в недрах двухэтажного здания клуба за пыльными книжными стеллажами грустила библиотекарша, давно не получавшая весточки от своего парня, служившего где-то за тысячи километров отсюда, в занесенном снегами краю лиственниц и кедров.
Был месяц май, скоро начинались каникулы, и дети бездумно предавались счастливой безмятежности жизни, даль которой лежала перед ними, светлая и необозримая. Никогда, никогда больше Валентина не испытывала столь полного и всеобъемлющего счастья…
Школьные годы промчались быстро, и где-то в туннелях времени затерялась, испарилась ее первая любовь к мальчику, когда-то таскавшему за ней портфель.
После той памятной выпускной вечеринки они стояли у калитки и летний вечер – лиловый маг – ласково обнимал их за плечи.
Когда Валентина, с опаской оглянувшись на горевшее синим телевизионным пламенем бабушкино окошко, высвободила наконец свою ладошку из его горячей руки и решительно сняла наброшенный на плечи пиджак, Артур тихо сказал:
— Если у меня родится девочка, назову ее твоим именем…
У себя в комнате, стараясь не потревожить дремавшую перед телевизором бабушку, Валентина достала из ящика стола исписанный, как говорится, с конца, с начала и кругом альбом, где хранилась важная информация в виде любимых стихов, песен, пожеланий от подруг и собственных размышлений.
Испытывая непреодолимую потребность сохранить в памяти это щемящее и в то же время сладкое чувство опустошенности – проводы первой любви, Валентина, стараясь упорядочить царивший в голове сумбур, включила настольную лампу с уютным зеленым абажуром и принялась листать пухлую тетрадь, с опаской поглядывая на бабушку.
Она нашла немного свободного места на странице, где аккуратным детским почерком соседки по парте Светки излагались перипетии несчастной судьбы пернатого, горько рыдавшего на ветке сирени из-за любви и измены. «Кто любит более тебя, пусть пишет далее меня!» – несколько раз перечитала Валентина последнее Светкино послание, затем нарисовала под ним два оплывших свечных огарка и снизу приписала: «Погасли свечи, ушла любовь…»
Завершив прощальные мероприятия, Валентина вздохнула с облегчением и, спрятав тетрадь под стопку старых учебников, приступила к более приятному занятию: с сердечным трепетом уже в который раз она принялась перечитывать любимую книгу, на обложке которой значилось лаконичное: «Прощай, оружие!»
Валентина потеряла Артура из виду в круговороте жизни, знала только, что он поступил на математический факультет в столице и после окончания вуза остался там работать.
20.
Приехав на лето в родное село из столицы, она, как с корабля на бал, попала на похороны – Луара, старшая сноха соседки Розы, скоропостижно умерла на сорок пятом году жизни. Смерть ее имела странную предысторию, не чуждую конспирологических теорий – кошмары бедной Луары не закончились и после ее кончины. Накануне этого прискорбного события младшей невестке Лауре приснился сон, о котором она не преминула поведать всем встречным и поперечным, по цензурным соображениям опустив некоторые малозначительные подробности.
Якобы ночью к ней в спальню пришли две огромные крысы и, поднявшись на задние лапки, принюхались к спертому воздуху, насыщенному, несмотря на открытое настежь окно, черт знает чем (на ужин бог послал Лауре молодую картошечку с чесночком, а ее мужу, кроме всего прочего, и чарку отменного самогона).
Грызуны, однако, и не подумали уйти прочь, а с легкостью запрыгнули на широкую кровать и, обгоняя друг дружку, бодро побежали по тонкой простынке, коей по причине невыносимой жары укрывались супруги. Подобравшись к лицу женщины, покрытому толстым слоем чудодейственной омолаживающей смеси на основе майонеза, крысы тут же полезли дегустировать аппетитно пахнущую субстанцию. Проснувшись от щекочущих прикосновений усов, Лаура, улыбаясь, протянула руки и с томной негой шепнула:
— Заур, наконец-то…
Но супруг храпел рядом, самым бессовестным образом манкируя исполнением супружеских обязанностей, и Лаура, с досадой отвернувшись от Заура, вдруг узрела в душной темноте какую-то старуху с косой.
Она стояла возле кровати, перекинув через костлявое плечо вполне мирное сельскохозяйственное орудие с таинственно мерцающим в темноте металлическим лезвием, и сквозняк осторожно перебирал складки ее черного балахона, словно опытный карманник в переполненном людьми общественном транспорте.
Лаура протяжно зевнула, решив, что во сне к ней заявилась покойная свекровь, частенько достававшая ее даже с того света советами по поводу разного рода хозяйственных моментов. Но, обратив внимание на чересчур субтильное, в отличие от свекрови, телосложение гостьи, сонная Лаура протерла глаза: перед ней стояла смерть собственной персоной. Объятая невыразимым ужасом, она широко разинула четко очерченный белой каймой майонеза черный рот, как безумный киношный Джокер – Эйнштейн преступного мира – и завизжала жутким нечеловеческим голосом.
Вибрирующие звуковые волны в панике разлетались в разные стороны и, многократно отразившись от стен и потолка, исчезали за открытым окном – этот вопль вполне мог дать сто очков вперед даже пронзительному бабьему визгу самого непоследовательного последователя киднеппинга, с которого вождь краснокожих на утренней заре совершенно недвусмысленно пытался снять скальп.
Испытав чудовищный акустический удар, сравнимый с пролетом реактивного самолета в опасной близости от ушной раковины, резвившиеся на подушке грызуны попадали вниз и, тяжело шмякнувшись на колючий палас, уползли под кровать, волоча отнявшиеся от небывалой нервной встряски ноги. Подброшенный визгом бестолковой жены чуть ли не до потолка, десантник Заур (бывших десантников не бывает – это всякий знает) совершил довольно жесткую посадку посреди постели. Прошедший не одну горячую точку вэдэвэшник, не раз смотревший смерти в глаза, едва успев приземлиться, взглянул прямо в пустые глазницы гостьи и, почему-то вспомнив мать Лауры, рухнул обратно на смятые простыни.
Однако запредельные звуковые колебания ничуть не поколебали решимость видавшей виды смерти. Она лишь повела курносым носом, невыносимо страдая от спертого воздуха, где ощутимо доминировал чесночный дух, и, наклонившись к перепуганной насмерть женщине, приступила к выполнению своих прямых обязанностей. С торжественностью, приличествующей ситуации, как старый ленинец, декламирующий патриотические стихи на юбилее незаслуженно забытой партии, она произнесла:
— Вставай, Луара! Твой час настал!
Онемевшая было Лаура обрела дар речи и торопливо замахала на незваную гостью руками:
— Это не я! Я не Луара, я Лаура!
— Ну что вы все цепляетесь за эту жизнь! – с досадой протянула смерть, воздевая к небесам не занятую инструментом долгопалую кисть, будто призывая в свидетели того, кто в недобрый час сотворил этот мир и управляет им по своему божественному, но непостижимому замыслу.
— Я не Луара! – стуча зубами, твердила Лаура, немилосердно брыкая подозрительно притихшего десантника Заура.
Смерть поставила блеснувшую узким лезвием косу в угол и, отойдя к светлому проему окна, принялась торопливо шарить по карманам своего черного одеяния, ворча голосом свекрови:
— Лу… Луа… Лаура… Черт бы вас побрал с вашими дурацкими именами!
Наконец костлявая обнаружила нужную бумагу, опровергнув беспочвенные земные чаяния об отсутствии бюрократии хотя бы в небесной канцелярии, греющие сердца еще живущих, и сердито ткнула ею под нос своей предполагаемой жертве:
— Вот, смотри! Ахметова… Луара Арсеновна, улица Ленина, 26!
Лаура с облегчением закудахтала:
— Это не тот дом! Здесь Ленина, 25! А я Даурова Лаура Руслановна! По мужу, да, Ахметова… Я сейчас паспорт покажу!
— Не надо! – раздраженно отмахнувшись от нее, ночная гостья поправила свой балахон и, тихим свистом призвав компаньонов – еле отошедших от нервического шока грызунов, направилась к двери, буднично закинув на плечо свой смертельный атрибут.
На пороге смерть оглянулась:
— Слушай… как тебя там…Лаура, если по чесноку, злоупотребляешь ты чесноком-то… Даже в чистилище воздух чище! Так недолго и ласты склеить – смотри, в следующий раз не отвертишься!
Вечером того же дня бедной Луары не стало. Это мистическое совпадение с пророческим сном Лауры было единственным предметом обсуждения собравшихся в большом количестве соболезнующих, особенно им не давали покоя две крысы – трактовка их символического значения вызывала бурные, неутихающие дискуссии.
Однако явление Валентины на похоронах слегка подкорректировало это житейское представление, где новопреставленным, даже самым важным, увы, уготована роль лишь внесценических персонажей.
На смену протяжному вою Мельпомены пришла тихонько дремавшая до сей поры Талия-озорница, и лица присутствующих, сбросивших принужденные трагические маски, расцвели приторно-сладкими улыбками:
— Валентина, девочка моя, ты все еще не замужем?
— Почему ты до сих пор одна? Моя дочь на пять лет младше тебя, а у нее уже трое детей…
— Неужели там, в столице, на ярмарке невест, нет подходящих женихов?
— Так сколько тебе уже стукнуло?
— Валентина, хочешь познакомлю с троюродным братом? Он, правда, сидел двенадцать лет… Не думай, ничего серьезного, какой-то незначительный проступок… Кто в молодости не ошибался?
Валентина, уже привыкшая к радостям урбанизации в виде наплевательского отношения к населению вообще и к каждому индивиду в частности, в полной растерянности отмалчивалась, смущенная столь живым интересом к своему к семейному статусу.
— А вот надо было выйти замуж за моего сына, – моложавая, опрятная старушка, остановила на Валентине ласковый взгляд ничуть не поблекших живых глаз.
Валентина узнала мать Артура и поспешно перевела разговор:
— Где он сейчас? Как он?
Сияя материнской гордостью, старушка поведала, что все ее пятеро сыновей прекрасно устроены, в том числе и младшенький Артур. Он обеспечен, заправляет где-то в столичном регионе… агро… как это называется… агропромышленным комплексом, женат и имеет троих детишек. Памятуя о прощальном обещании Артура, Валентина с любопытством спросила:
— А дочери есть у него?
Она прижала благоухающий цветочным ароматом платочек к ясным голубым глазам в сетке мелких морщинок и ответила:
— Нет, дочка, у него только три сына. А что?
— Ничего, – разочарованно протянула Валентина.
21.
Поздно вечером она сидела в одиночестве на лавочке у ворот, вслушиваясь в еле слышное укоризненное шушуканье старых серебристых тополей, помнивших те времена, когда почти каждый вечер под ними маялись отвергнутые ухажеры.
Неслышно ступая мягкими домашними тапками, подошла мама, присела с ней рядом и, обняв за плечи, вздохнула:
— Знаешь, доченька, я уже боюсь на улицу выходить: все только и делают, что достают меня вопросами о твоем замужестве… Валечка, дочка, что с тобой происходит? Ты же у меня умница и красавица! Неужели так трудно найти мужа? Тебе уже скоро тридцать лет, пора, пора замуж наконец! Твоя бедная бабушка так и не дождалась правнуков, хочешь и меня лишить внуков?
Причитая вполголоса, мать скрылась за воротами. Остро чувствуя собственную ущербность, Валентина с тоскливой безнадежностью посмотрела в бархатное южное небо, откуда так же ущербно светила краюха месяца с рассыпанными далеко вокруг крошками звезд. Ночные светила насмешливо перемигивались, глядя с недосягаемой высоты на старую деву, вековуху, не сумевшую найти на всей планете, к слову, не самой маленькой в Солнечной системе, какого-нибудь завалящего представителя не самой прекрасной половины человечества.
Отмахнувшись от надоедливо пищавшего перед самым носом комара, она вдруг вспомнила прочитанную когда-то в детстве сказку о прекрасном юноше, заколдованном ведьмой в отместку за неосмотрительно отвергнутую им любовь. Мстительная фурия наложила на белокурого красавца принца страшное заклятие: он будет находиться в образе гнусного гнуса до тех пор, пока какой-нибудь добрый человек не поделится с ним своими внутренними ресурсами, пожертвовав на благое дело всего три капли крови.
Находясь под впечатлением этой душещипательной истории, маленькая Валя напрягала последние силы, не прерывая кровавого пира какого-нибудь присосавшегося к ее нежному телу членистоногого вампира. Наконец, как припозднившийся завсегдатай пивнушки, комар с сожалением покидал насиженное место и, с трудом подняв раздувшееся, переполненное юной кровью брюшко, тяжело взлетал, словно перегруженный оружием громоздкий транспортный вертолет Ми-26.
Забыв о зудящей ране, Валентина с надеждой следила за его прерывистым полетом, но волшебное перевоплощение в голубоглазого и белокурого юношу в пурпурных одеяниях, очевидно, происходило в недоступных для нее местах…
А время, возница беспечный, торопливо несется вскачь – с тех пор прошло почти двадцать лет, но принца все нет! А она тоскует о человеке, который, наверное, и думать забыл о ее существовании… Ох, Саня. Саня…
— Где же ты, мой прынц на белом коне?
Вдруг в узком переулке истерически взвизгнули тормоза, и, подняв тучи теплой июльской пыли, перед Валентиной остановилась роскошная белая машина. Иномарки к тому времени еще в небольших количествах колесили просторы отечества, но Валентина, заметив блеснувший на капоте логотип в виде трехлучевой звезды – синонима комфортной езды – быстро идентифицировала транспортное средство как детище самого узнаваемого в мире немецкого концерна.
Из машины с видимым усилием вылез дородный мужчина, сверкнув гладко выбритой крупной головой при свете неполной луны, которая еще со времен солнца нашей поэзии и несравненного дивного гения служит заменой тусклых фонарей.
— Берова! – воскликнул гость и остановился перед Валентиной.
Вглядевшись в рыхлое, рано обрюзгшее лицо с оттопыренной толстой нижней губой и немилосердно косящим правым глазом, она наконец признала Казбека, бывшего учителя-трудовика.
После окончания школы в районном центре Казбек навострил было лыжи на исторический факультет местного вуза, однако родная тетка, которая уже третий десяток лет в поте лица возделывала ниву среднего образования, удержала его от этого опрометчивого шага.
Облюбованное им направление считалось кузницей партийных кадров и гарантией всякого рода привилегий, коими безнаказанно пользовалась правящая элита, при этом неустанно трубя с трибун об идеалах всеобщего равенства и социальной справедливости. А посему ярко освещенные коридоры исторического факультета, за редким исключением, освящали своим присутствием лишь прыщавые отпрыски функционеров первой в мире социалистической страны, с ног до головы упакованные в шмотки, произведенные на загнивающем западе.
— Даже не думай! – увещевала его тетка, имевшая привычку говорить правду всем в лицо, невзирая на лица. – Мой сын поступал туда шесть раз! Подумай, шесть раз! А он не тебе чета – читает днями и ночами…
Казбек подал документы в сельскохозяйственный институт, но и тут ему не повезло: на пути к вожделенному высшему образованию встали паукообразные, в чьи искусно сплетенные сети он угодил, как малое дитя. Потный от напряжения абитуриент так и не смог припомнить ни одного представителя этого повсеместно распространенного класса, несмотря на активные телодвижения и говорящие пассы экзаменатора, который довольно удачно изображал человека-паука, страстно желая заарканить потенциального студента на крайне непопулярное ветеринарное отделение.
Перед Казбеком забрезжила радужная перспектива службы в армии, ограниченный контингент которой как раз в этот момент с переменным успехом душил душманов и прочих непримиримых, прочно увязнув в чужой и совершенно чуждой стране.
Откосить от службы не помогло даже врожденное косоглазие – отступные, стыдливо озвученные весьма интеллигентным военкомом, оказались неподъемными для его матери, в одиночку поднявшей сына.
Узнав, что педагогическим работникам даются некоторые послабления в виде отсрочки выполнения ратного долга, уклонист пришел на поклон к тетке. Та – ну как не порадеть родному человечку! – без труда устроила любимого племянника учителем труда – на самую невзыскательную должность, стоявшую в негласном образовательном табеле о рангах где-то рядом с техническим персоналом и полностью игнорируемую контролирующими органами.
В учебном плане старшеклассников этот полезный предмет уже не значился, поэтому Валентина видела нового учителя, полноватого и быковатого, только пару раз мельком.
Однако так случилось, что всеми любимый историк Чингачгук неожиданно выбыл из сплоченных педагогических рядов по причине обильных вчерашних возлияний в честь Дня птиц, свято чтимого им, как и остальные заметные даты наподобие бостонского чаепития или годовщины панамских мучеников. Но самые трепетные чувства Чингачгук питал к общенациональному празднику, который неизменно почитается на просторах Отечества в память об июльском событии, когда в ответ на августейший совет вместо хлеба утолять голод гораздо более калорийными пироженками, разъяренные парижане снесли не только Бастилию, мрачный оплот абсолютной монархии, но и неудачливые головы самих монархов…
Когда сварливая скво Чингачгука, биологичка, со знанием дела озвучила суровую правду о состоянии жестоко терзаемого абстинентным синдромом супруга, завуч метнулась к телефону, дабы призвать другого историка – работавшего на полставки заслуженного ветерана труда. Пассионарный пенсионер, однако, в категорической форме отказался сеять разумное, доброе, вечное в этот день, поскольку уже сеял на своем приусадебном участке семена элитного сорта кукурузы Ледяной нектар, отличавшегося наряду с высокой урожайностью весьма капризным характером.
Так, за неимением других свободных учителей, отчаянно трусившего молодого трудовика ничтоже сумняшеся запустили в 10 «А».
— Здраштвуйте! Меня зовут Казбек Инзрелович! – зашлепал он, с трудом удерживая в повиновении отвисшую нижнюю губу, вдобавок ко всему еще и пришепетывая, – один из передних зубов, маленький и ущербный, смущенно прятался за спины своих здоровых собратьев, образуя внушительную щель, совершенно несовместимую с правильной артикуляцией.
И хотя на побледневшем от испуга лице, как глубокие карстовые озера, плескались красивые темно-синие глаза, один из которых, к сожалению, сильно косил, – это уже не спасло безнадежно испорченного впечатления.
Стараясь не обращать внимания на приглушенные смешки, трудовик достал с полки первый попавшийся учебник по истории средних веков для седьмого класса под редакцией Е.В. Агибаловой и без всяких предисловий принялся зачитывать параграф о причинах возникновения непреодолимых противоречий в стане спаянной железом и кровью католической церкви.
Вполуха слушая его косноязычный лепет и хихикая, десятиклассники уютно разбились на группки и занялись своими делами, гораздо более интересными, чем средневековые внутрицерковные распри.
Провожаемые укоризненными взглядами великих исторических деятелей разных эпох, из конца в конец кабинета, увешанного картами и диаграммами летали записки со скоростью, которой позавидовал бы недавно ставший полноценным янки Ян Кум – отец современного ватсапа.
Мальчишек радостный народ самозабвенно резался в морской бой, вполголоса комментируя наиболее удачные выстрелы корабельных орудий.
Звучно шлепая по столу измочаленными от частого употребления картами, несколько отъявленных двоечников и хулиганов играли в дурака и попутно дурачились. Добросовестно обработав слюнными железами клочки бумаги, – в дело шли непринужденно вырванные из рабочих тетрадок листки – они обстреливали одноклассниц тяжелыми, как свинцовые дроби, пульками (изготовить плевалку из шариковой ручки – раз плюнуть). То и дело какая-нибудь девчонка, попавшая в зону поражения, подскакивала как ужаленная и оборачивалась, сверля угольями пылающих глаз задние парты, которые испокон веков носили гордое название самого восточного полуострова, славного изысканными продуктами воспроизводства осетровых вкупе с гейзерами и ледниками. Обитатели задворков к тому времени уже искусно притворялись с головой погруженными в игру, и пламя, так и не возгоревшись от искры, быстро сходило на нет до следующего меткого плевка.
А девицы, ахая и охая, снова принимались перелистывать затертые до дыр страницы модного журнала, кочевавшего, как переходящий вымпел ВЛКСМ, по всем партам. Сие глубокое творение вместе со стопкой безумно популярных самоклеящихся картинок с красавицами разных мастей привез счастливой Светке брат, благополучно отслуживший в армии, в самой западной группе войск.
Между тем, в процессе своего архиувлекательного чтения трудовик столкнулся с такой важной в церковной иерархии фигурой, как Римский папа. Озадаченно шлепнув губами, словно одряхлевший генсек, не сумевший разобрать какое- нибудь заковыристое слово из накарябанного помощниками доклада, он запнулся, не понимая, как такое обыденное для русскоязычного слуха понятие могло затесаться в западноевропейскую историю.
Повествуя о славных деяниях очередного папы, в очередной раз утопившего в крови злосчастное население ближневосточных стран, трудовик, не мудрствуя лукаво, скороговоркой выпалил: «папА» – и бодро пошлепал дальше – жужжавший по своим делам класс насторожился, почуяв поживу.
Сидевший за первой партой Мурик, гордость школы, спортсмен, комсомолец и, наконец, красавец, только что пустивший на дно вражеское плавсредство, тряхнул непослушными черными кудрями, как молодой Вольтер, и с нескрываемым сарказмом максимально уверенного в себе юноши-максималиста переспросил:
— Кто-кто?
Здоровое лиловое око горе-педагога заметалось по портретам государственных деятелей в поисках подмоги, но те лишь презрительно поджали губы – и Казбек бросился прямо в омут с головой:
— Римшкий папА!
Нечаянный изысканно-аристократический галльский вариант произношения более чем привычного слова вызвал неудержимый хохот в классе.
Эпичное ударение рикошетом ударило и по начитанному оппоненту Казбека: корчась от смеха, Мурик наклонился чересчур резко и с громким стуком крепко приложился лбом о столешницу. Из глаз новогодним фейерверком посыпались багрово-красные искры, при виде которых, очевидно, позеленел бы от зависти многомудрый немецкий ученый-универсал, первым наблюдавший явление искусственного электрического свечения.
Тогда засмеялись даже те, у кого пассаж трудовика не вызвал особого ажиотажа, – камчатские долгожители, двоечники и нарушители дисциплины, злорадствуя, загоготали нарочито громко, мстя Мурику за ту легкость, с какой он грыз крепкими молодыми зубами неподатливый гранит науки.
— Мурик сегодня в ударе! – сквозь смех заметила Светка, оторвавшись от голубоглазой красотки в умопомрачительной удлиненной юбке-миди.
Казбек, за минуту до этого испытавший приступ жгучей личной неприязни к потерпевшему, тоже отметился серией судорожных выдохов, которые и смехом-то можно было назвать с большой натяжкой, – но и это стало тяжким оскорблением для Мурика.
Ощупав внушительную шишку на лбу, он мрачно уткнулся в парту, обдумывая, чем бы ответить Чемберлену, в сотый раз изучая вырезанную кем-то на многострадальной столешнице надпись «KISS» с багряными молниями вместо двух букв S, угрожающе изломанными наподобие летучих стрел огнеопасного бога Зевса. Возмущенный разум Мурика кипел – казалось, эта скандальная западная рок-группа сбацала у него в голове целую композицию из своих полусадистских вирш, тонущих в грохоте электрогитар и к тому же имеющих идеологическую подоплеку, совершенно несовместимую с моральным обликом пламенного комсомольца.
Прозвенел звонок, и Казбек, бросив на стол раскрытый учебник, рванул к выходу, торопясь унести ноги от страшных старшеклассников. Но отравленная стрела, пущенная мстительным Муриком, все-таки настигла его:
— До свидания, Казбек НЕзрелович!
Казбек Инзрелович вздрогнул всем своим крупным телом и споткнулся, будто и в самом деле в его полную лодыжку хищно впилось какое-либо обоюдоострое оружие из внушительного арсенала колюще-режущих предметов. Мечтая убить пересмешника, не оглядываясь, вляпавшийся в историю трудовик выскочил за дверь и побежал по шумному коридору, прихрамывая, как неудачливый кентавр Хирон, случайно раненный своим легендарным учеником в аккурат перед совершением им очередного, пятого подвига.
Еле дождавшись конца учебного года, Казбек бросил школу, напрочь разочаровавшись в системе советского образования, категорически не справлявшегося, по его мнению, с воспитанием учащихся в духе высокой морали и нравственности, но полученная после злополучного урока кличка Незрелович приклеилась к нему намертво…
Да, тогдашние школьники за метким словом в карман не лезли, и припечатанное ими имя оставалось с человеком до конца, как удостоверение личности, – куда до этой креативности нынешним одноклеточным тиктокерам-лайкоголикам…
22.
Этот самый Незрелович стоял сейчас перед Валентиной, солидный, самоуверенный и, судя по маячившему в темноте красавцу автомобилю, весьма успешный.
Непринужденно кося правым глазом, Казбек, осклабившись, оглядел, будто огладил, ладную фигуру бывшей ученицы:
— Ты еще не замужем?
Чаша терпения, клокоча и клубясь, как своенравная Нева во время очередного наводнения, наполнилась до краев, выплеснув на лысую голову Казбека всю желчь, накопленную за этот бесконечный день:
— Я не замужем! В столице женихов нет! Если у вас есть знакомые рецидивисты, прошу их зря не беспокоить!
— Такие люди! И без женихов! – не моргнув лиловым глазом, воскликнул заметно повеселевший гость и, не сказав больше ни слова, вскочил за руль и сорвался с места, окутав Валентину очередной порцией удушливой пыли.
Недоумевая, она смотрела ему вслед, пока легкое изделие Европы не скрылось за поворотом, подскакивая на отеческих ухабах огоньками задних подфарников. Но не прошло и десяти минут, как в начале улочки снова запрыгали дальние огни, разрезая тьму, словно световые мечи в руках джедаев, рыцарей-миротворцев, спешащих на битву со вселенским злом.
Снова взвизгнули тормоза и взметнулось облако пыли. Незрелович распахнул белую дверцу, чуть не сбив с ног девушку выпущенными на волю децибелами, в реве которых захлебывались и тонули веселые ребята с розовыми розами – подарком к тридцатилетию одноклассницы (и, надо думать, намеком на возраст Валентины). Довольный произведенным эффектом, мужчина жестом волшебника, прилетевшего в голубом вертолете, подхватил с сиденья огромную охапку роскошных красных роз, как потом выяснилось, экспроприированных им у местного предпринимателя.
Вечером следующего дня он появился у ворот Валентины с таким же букетом, и, необычайно ласково встреченный ее матерью, попросил отпустить дочку на банкет по случаю дня рождения одного общего знакомого.
Рассовывая длинные прочные стебли с твердыми, как канцелярские кнопки, шипами во все имеющиеся подходящие емкости, Валентина исподтишка разглядывала своего нежданного ухажера.
Кося лиловым глазом, как фантомный рыжий конь заслуженного мушкетера-боярина, он сидел на стуле, услужливо подставленном матерью Валентины, закинув ногу на ногу, и, оттопырив нижнюю губу, попыхивал тонкой дамской сигаретой с ментолом. Надетый на голое тело сине-белый спортивный костюм, украшенный, по моде тех лет, яркими принтами и сетчатыми вставками в самых неожиданных местах, весьма удачно смотрелся с начищенными до блеска черными лакированными туфлями.
В кучерявых зарослях волосатой груди виднелась золотая цепь толщиной с руку годовалого карапуза, вскормленного питательным материнским молоком, короткие пальцы, тоже не лишенные растительности, были унизаны массивными перстнями, а на обоих запястьях сверкали совершенно одинаковые часы из белого металла (Ролекс, как она узнала потом, – символ не только роскоши, но и понтов).
Так начались эти странные отношения, закончившиеся через три месяца браком, хотя Валентина изначально понимала: это замужество не что иное, как прыжок в какой-нибудь подвернувшийся водоем в самоубийственных целях, по словам перемудрившей с выбором милого друга героини из мрачноватой комедии блестящего поэта-полиглота и талантливого дипломата.
Анжела, узнав о ее решении, долго кричала в трубку:
— Валентина, не смей! Я бы ни за что не вышла за него! Это жестокая ошибка! Он тебе не пара!
Пара или не пара – но Валентина на всех парах летела навстречу судьбе.
Осенью в дождливый серый день по райцентру проехала вереница машин, украшенных вымокшими бумажными цветами и лентами, и остановилась у недавно отстроенного кафе с зеркальными окнами и мраморными полами, в которых отражались бесчисленные огни хрустальных люстр.
Стараниями Казбека был устроен пир горой, плескалось мутное разливанное море контрафактного шампанского – пугливый кооператор, послушный, как агнец, своему незавидному жребию, по первому требованию жениха презентовал ему указанное количество бутылок.
Атлетического вида мужчины, поголовно бритые и одетые в дорогие спортивные костюмы, – невиданная доселе историческая общность, новые русские кавказской национальности – демонстрировали друг другу поражающие воображение ювелирные изделия: перстни, часы и тяжелые, словно вериги ветхозаветных юродивых, уродливые цепи, считавшиеся в те лихие времена эквивалентом мужского достоинства.
Потребляя спиртные напитки в немыслимых количествах, они непринужденно делились изобретенными ими приемами незаконного обогащения за счет обалдевшего от беспредела населения, которые, несомненно, привели бы в немалое замешательство известного автора четырехсот способов относительно честного отъема денег у их счастливых обладателей.
Далеко за полночь два приятеля приволокли Казбека домой – супруг чересчур увлекся, наполняя свой изумрудный кубок золотистым вином и поднимая его за здоровье возлюбленной. Еле-еле уложив основательно заложившего за воротник новобрачного поперек широкой супружеской кровати, дружки побрели восвояси. Полностью потеряв навыки ориентирования в пространстве, – следствие пагубного влияние этанола на клетки коры головного мозга – приятели попытались покинуть любовное гнездышко через небольшой встроенный шкаф. Широко распахнув скрипучие дверцы этого венца позднесоветской архитектуры, усталая пара тупо уставилась куда-то в его глубину, забитую разного рода хозяйственной рухлядью, будто нежданно узрев мистические порталы в обетованный, волшебный мир Нарнии.
Кроме новой хозяйки и совершенно беспомощных мужчин, в доме никого не было: гости разъехались, а мать Казбека отошла в мир иной два года назад. Делать было нечего – Валентина, как Ариадна, путеводная звезда переменчивого Тесея, вывела застенчиво жавшихся к стенке приятелей из запутанного лабиринта двухкомнатной квартиры. Один из дружков, более потасканный и менее адекватный, тяжело плюхнулся за руль иномарки, заляпанной грязью, как навозный жук, только что покинувший уютные, теплые недра слоновьей кучи. Чихнув пару раз и кашлянув охрипшим мотором, машина понеслась по улочке, выбрасывая из-под колес фонтаны грязной жижи, и скрылась в туманной пелене ноября.
Закрыв на ключ входную дверь, Валентина вернулась в спальню и со вздохом посмотрела на распростертого на кровати совершенно постороннего человека. После некоторых сомнений она стянула с бессознательного тела белую спортивную куртку с подозрительными бурыми пятнами, сняла часы с обоих запястий и туфли, оставив только штаны и тяжелую цепь, таинственно мерцавшую на волосатой груди в приглушенном свете новых двойных бра.
Новобрачного весь остаток ночи рвало осетриной, видимо, второй свежести, реквизированной вместе с остальными разносолами у местного ресторатора. Чтобы рвотные массы не попали в дыхательное горло, став причиной летального исхода, Валентина неусыпно бдела возле его постели – молодую жену не очень привлекала перспектива стать вдовой сразу после свадьбы наподобие курляндской самодержицы, божьей милостью призванной на царство ввиду полного династического безрыбья.
Чувствуя непреодолимую потребность в опорожнении желудка, Незрелович вскакивал с такой прытью, что Валентине не всегда удавалось поймать упругую, пахучую струю медным тазиком, – тогда она отмывала потертый паркет, подоткнув подол длинного шелкового пеньюара (необходимого аксессуара любой кавказской невесты вне зависимости от социального статуса и материального достатка).
За таким занятием, которое не вполне соответствовало общепринятым представлениям о романтической ночи любви, Валентину застал блеклый ноябрьский рассвет. Когда первый луч солнца блеснул из-за усталых, бледных туч и коснулся опавших щек мужчины, уже покрытых двенадцатичасовой щетиной, он тяжело поднялся с перины и, не открывая глаз, как гомункул, безобразное творение доктора Франкенштейна, прошлепал к приткнувшемуся в дальнем углу столику с фруктами, конфетами и прочими необходимыми атрибутами первой брачной ночи. Безошибочно нашарив графин с водой, Незрелович в несколько звучных бульканий опрокинул в себя все его содержимое и вновь рухнул на кровать, предварительно дохнув на Валентину таким перегаром, будто во рту у него после длительного перехода переночевал не один эскадрон летучих гусар.
До летального исхода, к счастью, дело не дошло: Казбек проснулся после обеда, долго сидел в ванной, затем не глядя на жену, разбиравшую вещи, прыгнул в машину и умчался в неизвестном направлении.
Уже ночью, когда молодые познали сладостной любви венок вкупе с брачными тайнами постели, Незрелович, принявший свой обычный самоуверенный вид, подложил под спину пуховую подушку в вышитой индийской наволочке и, прикурив от золотой зажигалки, хмыкнул:
— Никогда бы не поверил, что ты девштвенница…
— Девштвенница! – передразнила его оскорбленная Валентина.
Стремительно повернувшись к ней, новоиспеченный муж неожиданно влепил ей хлесткую пощечину и шлепнул губами:
— Заткнишь!
Валентина, ожидавшая чего угодно, но не оплеухи после ночи, так сказать, любви, вскочила и, накинув на себя пеньюар, выпрямилась, глотая злые слезы:
— Все, Казбек, сходила замуж – и довольно! Я домой.
Толстая нижняя губа Казбека отвалилась, глаза заволоклись слезами – довольно резво для своего веса он спрыгнул с постели и рухнул перед женой на колени. Рыдая, словно заблудший грешник при виде геенны огненной, он хватал ее за руки, обильно смачивая их скупой мужской слезой, и ползал за ней по скрипучему старому паркету, моля о прощении.
Пресловутое проклятие конформизма тут же обрело зримые формы и сказало свое веское слово: Казбек просто не в себе, а ее скоропостижное возвращение в отчий дом вызовет множество ненужных сплетен и кривотолков. И Валентина, дрогнув, отступила, решив, что она обязательно бросит мужа, если он еще раз поднимет на нее руку.
После этого случая Валентина как-то предложила Казбеку исправить прикус, но, едва взглянув ему в лицо, которое, мгновенно гневом возгоря, на глазах превращалось в оскаленную маску, быстро прикусила язык.
23.
В течение одного года Незрелович отгрохал трехэтажный дом. Все в нем: увенчанные античными капителями громоздкие колонны, гипсовые карнизы, кованые перила лестницы, рамы бесчисленных зеркал – было покрыто позолотой. Из-за спешки и ненадлежащего исполнения своих обязанностей вороватым прорабом любовное гнездышко получилось неуютным и сыроватым, как овеянная мрачными легендами средневековая крепость из основательно забытых в эти нерыцарские времена рыцарских романов.
Эти и другие конструктивные особенности здания весьма затрудняли определение его архитектурного стиля, но впоследствии, с легкой руки писательницы, известной старинным русским именем и глубоким пониманием современных реалий, Валентина обозначила его как «кококо».
Двор Казбек огородил двухметровым забором и поставил точную копию виденных когда-то в знаменитом революционном фильме царских ворот, хотя эта претенциозная конструкция или реконструкция, не лезла ни в какие ворота рядом с обшарпанными оградами других застройщиков.
Четко следуя марксистско-ленинскому курсу в вопросе экспроприации экспроприаторов, Казбек лихо решал проблему лишних денег у робко пробивающегося на заре дикого капитализма класса предпринимателей и сказочно, неприлично богател. Он заставил все комнаты громоздкой дорогущей мебелью и заставил Валентину принять похожие на коконы вредных экзотических бабочек огромные люстры вкупе с кричащими о безвкусии занавесками и коврами.
Однажды муж привез сейф чудовищных размеров и, отпустив двух ухмыльнувшихся грузчиков, собственноручно, обливаясь потом, установил его в тайной комнате, устроенной за четырехдверным шкафом, колоссальным, наподобие надгробия застреленного во время бандитских разборок братка. Будто потихоньку наведываясь в сказочную пещеру Али Бабы, Казбек приносил драгоценности гроздьями, а наличность, чаще всего зеленые ассигнации, национальную валюту единственной оставшейся в мире сверхдержавы, собирал в большие полиэтиленовые пакеты и заботливо прятал в сейф. Валентине казалось, что пачки купюр в руках мужа вот-вот превратятся в разноцветные фантики и этикетки от бутылок, как на незабвенном представлении театра Варьете, устроенном проезжим духом, вечно жаждущим зла, но невольно иль по доброй воле совершающим благо.
Странное то было время, странная страна. Самые рьяные последователи исторического материализма в одночасье превратились в исторических материалистов, о чем прозорливо предупреждал в своей фееричной фантастической пьесе поэт-трибун, бескомпромиссный ненавистник мелкобуржуазных ценностей.
Неизвестное доселе добропорядочным гражданам понятие «жить по понятиям» проникло во все сферы жизни и прочно укоренилось везде, покрывая коростой проказы бренные останки надстройки и базиса.
Все, что удерживало на плаву хрупкую человеческую душу, было безжалостно низвергнуто с пьедестала вслед за печально известным железным наркомом, рыцарем никому уже не нужной революции.
А на его опустевшем постаменте какой-то остряк написал: «ПоЕту Лукьянову» – в память о наиболее сентиментальном участнике августовского путча – не самого беспощадного, но самого бессмысленного бунта за всю богатую потрясениями историю страны. Хотя написать следовало бы: «Маммоне»…
Казбек богател, но неохотно обременял ее наличностью даже на хозяйственные расходы и карманными деньгами не баловал – он сам приносил все необходимое, вплоть до интимных предметов женского туалета. Имея только дальнюю родню, Казбек особо их не привечал, да и родственников жены не любил, даже к матери, одиноко коротавшей свои дни после смерти бедной бабушки, отпускал нечасто. Завидев дочь из окошка своего ветхого домика (Казбек так и не собрался сделать обещанный ремонт), мать выбегала на порог и встречала ее со словами:
— Наконец- то ты вырвалась из своей позолоченной клетки!
Общение с одноклассниками и друзьями супруг тоже не приветствовал, но на праздники в своем кругу водил Валентину часто и с удовольствием, причем одежду и драгоценности, несмотря на ее протесты, выбирал ей сам.
На одном из таких торжеств она неожиданно увидела бывшего одноклассника Мурика. Он неловко топтался на небольшой эстраде с микрофоном в руке, блистая чешуйками обтягивающего серебристого комбинезона, словно Ихтиандр, перегревшийся под палящими лучами беспощадного тропического солнца.
Спустя некоторое время Мурик возник перед Валентиной, уже одетый в униформу официанта, с аккуратно зачесанными назад седеющими на висках кудрями и угасшим взором. Улыбнувшись одними губами, он протянул ей поднос с коктейлями. После ее отказа от дегустации разноцветных напитков, напоминавших некоторые химические соединения в жидком агрегатном состоянии, Мурик направился к другим гостям, но Валентина схватила его за лацкан белого лакейского пиджачка:
— Мурик, ты что здесь делаешь?
— Как что? Пою…
— Голос прорезался? – засмеялась Валентина.
— Друзья говорят, что у меня приятный баритональный дискант, – скривил губы Мурик, – да и вообще, наличие голоса сейчас не обязательно. Достаточно вести себя как можно раскованнее и нахальнее. Нахальство – это главная примета нашего времени, ты не думала об этом, Валентина?
— А эта ливрея? Входишь в новый образ?
— Я и официантом подрабатываю…
— Подрабатываешь? А основная работа?
— Я тачкист, на рынке.
— Тачкист? Что это? – искренне удивилась Валентина.
— Неужели ты забыла уроки русского и способы словообразования? Раиса Аскеровна этого не одобрила бы, – усмехнулся Мурик. – От слова «тачка»… Ну, носильщик…
— Как носильщик? Ты же был лучшим учеником в школе…
— Ты тоже была не последней ученицей, но выбрала в мужья бандита, очень незрелую личность, – с нажимом сказал Мурик и, бесстрастным взглядом окинув с ног до головы Валентину, увешанную золотыми изделиями, как многорукая индийская богиня изобилия Лакшми, возникшая из лотоса и сияющая на солнце, добавил:
— Хотя судя по количеству золота на тебе, ты, видимо, совершенно счастлива…
 Валентина сконфуженно улыбнулась, не замечая, что за каждым ее движением ревниво следит лиловое око супруга – как раз в этот ответственный момент под одобрительные клики друзей он втягивал в себя терпкое грузинское вино из переполненного до краев рога. Искоса наблюдая за женой, Казбек физически ощущал, как под чисто выбритой кожей головы что-то шуршало и чесалось, как будто и в самом деле на божий свет пробивались первые рожки, обещавшие стать мощными ветвистыми рогами.
Валентина сконфуженно улыбнулась, не замечая, что за каждым ее движением ревниво следит лиловое око супруга – как раз в этот ответственный момент под одобрительные клики друзей он втягивал в себя терпкое грузинское вино из переполненного до краев рога. Искоса наблюдая за женой, Казбек физически ощущал, как под чисто выбритой кожей головы что-то шуршало и чесалось, как будто и в самом деле на божий свет пробивались первые рожки, обещавшие стать мощными ветвистыми рогами.
Через пару часов Мурик снова появился возле сцены в чешуйчатом обличии, собираясь сменить существо непонятного пола в костюме божьей коровки, больше похожем на шляпку перезрелого мухомора.
Высоко подпрыгивая и выделывая членистыми конечностями невероятные па, оно настойчиво предостерегало от продолжения отношений с эффектной девушкой, имевшей анатомический дефект в виде гранитного камушка вместо сердца.
Забравшись на подмостки, Мурик включил минусовку и взял микрофон из латексной лапки членистоногого певца, покидавшего сцену под жидкие хлопки публики. То пропадая в плотных завесах табачного дыма, то вдруг вырастая из тумана, как айсберг, весьма опасный, как известно, для встречных кораблей, Мурик, печально потряхивая поредевшей гривой, поведал об эротических фантазиях загулявшего поэта, обнаружившего за соседним столиком девушку, которая, в отличие от предыдущей, являла собой чистейший образец чистейшей прелести, но, увы, принадлежала другому.
По окончании банкета Валентина, так нигде и не найдя запропастившегося куда-то Казбека, остановила Мурика, отъезжавшего на какой-то развалине, когда-то в прошлой жизни бывшей двухдверным минивэном, и попросила подвести ее до дома.
Когда заря багряной рукой неохотно вывела на бледный небосклон заспанное солнце, Валентину разбудил чудовищный грохот. Она торопливо растворила обшитую дубовым шпоном тяжелую металлическую дверь – пьяный в стельку Казбек сдернул с плеча хорошо знакомый ей по урокам Фосгена автомат Калашникова (модификации АК — 47, калибра 5, 45 мм., принятый на вооружение в 1974 году) и направил оружие на жену. Пошатываясь, он передернул затвор и, шлепая безобразно отвисшей нижней губой, взревел, как дальневосточный марал, отвергнутый самкой во время брачного периода:
— Что, не ждала меня? Думаешь, я не знаю, что ты была с этим неудачником? Тебя видели в его машине! Погоди, я из этого твоего Мурика жмурика жделаю!
Застыв на месте, будто превращенная в соляной столб непослушная библейская жена, Валентина ошалело смотрела в ехидно прищуренное выходное отверстие автомата и молчала: весь имевшийся в ее арсенале активный словарный запас мгновенно вылетел из памяти и стайкой, вкупе с запахами и звуками, умчался куда-то наискосок.
В полном соответствии с важнейшим принципом драматургии, предписывающим обязательное применение появившегося на сцене оружия, взбешенный Казбек пустил автоматную очередь поверх ее головы – огромная люстра венецианского стекла с оглушительным грохотом рухнула на мраморный пол с потолка высоченной двухэтажной прихожей и взорвалась тысячами хрустальных брызг. Удовлетворенный масштабами ущерба, нанесенного собственной недвижимости, пьяный муж круто развернулся, и ножки сорок третьего размера понесли его по дорожке, мощенной гиперпрессованной красно-белой плиткой, вон со двора.
О дальнейших событиях упавшая без чувств Валентина узнала только из эмоциональных свидетельств редких в этот ранний час прохожих и скупых отчетов милицейского рапорта.
На улице Казбеку преградил дорогу фонарный столб, внезапно возникший у него на пути, словно отвязный гопник из подворотни, – венец природы отважно вступил с ним в пограничный конфликт, который разрешился не в его пользу, несмотря на настойчивые увещевания и не очень добрые слова, подкрепленные условным кольтом. В итоге муж рока, отступив, падением ославил свой попятный шаг, но, отделавшись легкими телесными повреждениями, тут же развязал полномасштабные военные действия с применением огнестрельного оружия против недружественно настроенной армии соседских собак.
Отмутузив и разогнав тузиков и шариков, вояка заметил, что на пути у него встал новый сильный враг: древняя старушка выглянула из ворот, лихорадочно обматывая трясущуюся седую голову шерстяным платком. Казбек рванул на себя калитку и рявкнул почему-то на ломаном немецком: «Хальт! Хенде хох!» – словно фашист, пополняющий продовольственные запасы курками и яйками за счет населения оккупированных территорий. Решив с перепугу, что снова пришли проклятые немцы, бабка грохнулась в обморок.
Вызванные свидетелями происшествия компетентные органы повели себя крайне некомпетентно. Хмурые милиционеры, сорванные с затянувшейся пьянки по случаю присвоения одному из них очередного звания, отсиживались за каменной стеной склада стройматериалов (доблестной полиции еще не было и в помине), вяло отстреливаясь из единственного парабеллума, выданного под расписку замначхозом за неимением другого исправного оружия.
Автомат Казбека вскоре защелкал вхолостую, но, выхватив из-за пояса припасенный магазин, он снова зарядил оружие, что ничуть не разрядило напряженную обстановку. Нарушителя спокойствия повязали и притащили в отдел внутренних дел только после того, как у него закончились патроны.
Спешно проведенные оперативные мероприятия выявили, что в результате предпринятой Казбеком психической атаки не пострадало ни одно животное. Старушку оперативно откачали и отправили восвояси получившие щедрое вознаграждение врачи, напоследок убедив ее в том, что данное происшествие окажет благоприятное воздействие на ее изношенный организм, мобилизовав все ее скрытые резервы, и даже некоторым образом продлит ей жизнь. Выплатив моральную компенсацию всем пострадавшим и для порядка служителям порядка, задержанный с легким сердцем и весьма облегченным кошельком вышел на свободу.
Он явился в дом к теще, куда в ужасе сбежала Валентина, неумело реанимированная от обморока местным ветеринаром, работавшим на полставки в фельдшерском пункте.
— Тебя уже выпуШтили из сумасшедшего дома? – ледяным тоном встретила она Казбека.
Опустив здоровый синий глаз долу, проштрафившийся муж зашуршал пакетом с логотипом известного ювелирного бренда и явил на свет божий плоский продолговатый футляр с золотым позументом, размером с коробку любимых Валентиной шоколадных конфет «Ассорти».
Казбек положил подарок на покрытый изрезанной клеенкой кухонный стол, толстая нижняя губа отвалилась, глаза заволоклись слезами – далее последовал второй акт уже хорошо знакомого Валентине Марлезонского балета с ползаньем на коленях, неистовым прикладыванием чела к маминому ветхому линолеуму и проливанием совсем не скупых мужских слез.
Вечером того же дня она вернулась домой с мужем, постепенно, по мере выветривания алкогольных паров, принимавшим облик, более или менее приближенный к человеческому. Валентина под сердцем уже носила ребенка, а ему, как известно, жизненно необходимо наличие второго родителя, пусть даже такого безмозглого, как Незрелович. «Зато он добрый и отходчивый, – вздыхала бесхарактерная Валентина, – но если еще раз он сделает что-то подобное…»
24.
Очередные раскаты грома на ясных небесах семейных отношений грянули через год. После рождения дочери Казбек стал чаще пропадать из дома, Валентине помогала няня, одноклассница Светка, сама бездетная, растолстевшая до немыслимых размеров на дармовых хлебах свекра, председателя бывшего колхоза, потихоньку распродававшего сельскохозяйственную технику и сдававшего в аренду угодья процветавшего некогда хозяйства. По вечерам Светка уходила домой, а Валентина с дочкой оставались одни.
Уже было поздно и темно, печально завывал ветер, и мелкий осенний дождик стучал в окно, будто назойливая представительница хорошо знакомого Валентине кочевого народа, чья далеко идущая просьба напиться подразумевает более продуктивную помощь в виде продуктового набора или ощутимого для кармана денежного вспомоществования.
У девочки резались зубки, она капризничала, и гладившая белье Валентина подталкивала колыбельку, вполглаза поглядывая по телевизору на выкрутасы дикой мексиканской девицы, которую играла явно переоцененная актриса, обладательница маленького роста и больших амбиций.
Входная дверь тихонько стукнула, и Валентина, ожидая лицезреть загулявшего мужа, которого не видела уже более суток, помимо воли нахмурилась. Через минуту в комнату ввалились трое мужчин с натянутыми на головы черными колготками – балаклавы, незаменимый атрибут разбойничьего промысла, тогда еще не получили широкого распространения. Велев хозяйке, и так потерявшей дар речи, помалкивать, они принялись переворачивать дом вверх дном. Не найдя желаемого, в лучших традициях расплодившихся после смены идеологического курса бандитских сериалов, один из них аккуратно высвободил из побелевших пальцев Валентины горячий утюг и поднес к ее лицу, легким движением руки превратив невинный предмет бытовой техники в незамысловатое орудие пытки:
— Где твой муж прячет сейф? Отвечай, а не то…
— Не отворачивайся, мы же тебя только погладим! Но зато останешься с клеймом на лице, как миледи из фильма о мушкетерах! – хохотнул второй и чисто по-женски откинул с плеча свисавший с колготок чулок, как томившаяся в башне обладательница многометровой косы и труднопроизносимого имени, – еще одно порождение бурной фантазии сказочных немецких братьев.
— У нее на плече было клеймо, болван! – поправил его третий, видимо, тонкий знаток советского кинематографа.
— Да заткнитесь вы, придурки! – прикрикнул на подельников первый, очевидно выполнявший функции мозгового центра и технического директора операции.
Девочка проснулась и жалобно запищала – передав утюг эстетически подкованному ценителю искусства, любитель чужого добра, не чуждый доброты, принялся бережно качать люльку, при этом свистящим шепотом осыпая женщину угрозами:
— Что ты выбираешь, жить на этом свете или умереть ради украденных мужем грязных денег?
— Кошелек или жизнь? – красноречиво покачивая перед лицом Валентины электрическим прибором, вкрадчиво спросил киновед, облекая корявую мысль мозгового центра в более привычные речевые формы.
Технический директор легонько покачивал люльку, вполголоса убаюкивая кряхтевшего ребенка, Валентина остолбенело молчала.
— Ты как предпочитаешь умереть, легкой смертью или хочешь помучиться? – опять обратился заскучавший кинолюбитель к женщине и не без иронии посмотрел на своего недалекого собрата, намекая на культовый фильм, в котором демобилизованный красноармеец во время бесконечного перехода по барханам практически в одиночку подавил очаг контрреволюции, попутно освободив обреченных на вековечное домашнее рабство прекрасных и не очень обитательниц гарема.
— Хотелось бы, конечно, помучиться, – в тон ему ответила Валентина, понемногу отходя от ступора.
Киноман загоготал во все горло, но главарь цыкнул на него:
— Тише ты, ишак, ребенка разбудишь…
После такой интермедии Валентина, чувствуя себя героиней какой-то глупой комедии, покорно вступила в громадную супружескую спальню и указала романтикам с большой дороги на шкаф с секретом.
— Сегодня милостью Аллаха мы потрогаем за вымя гражданина Казбека, – улыбаясь в предвкушении большого куша, знаток классики в самом широком смысле подступил к могучему немецкому устройству торговой марки «Мюллер», известному всем обладателям лишних денег.
Введя комбинацию цифр – дату рождения Валентины – и продемонстрировав обескураживающую осведомленность о ее личных данных, парень с похвальной оперативностью открыл механизм, оснащенный системой блокировки, не имеющей аналогов (по крайней мере, по мнению бахвальных немцев). Колоссальная стальная дверь полуметровой толщины беззвучно поддалась и открыла алчущим взорам просторное вместилище, за прочными стенками которого свободно могла бы спастись от ядерного апокалипсиса среднестатистическая семья из трех человек.
После достаточно продолжительной мхатовской паузы последовал вопль разочарования, причем в общем хоре солировал голос хозяйки – тайник оказался неутешительно пуст. Лишь на самом дне сейфа лежала кипа каких-то бумажек – при ближайшем рассмотрении оказалось, что это долговые расписки. После тщательного их изучения мозговой центр операции мрачно выдал убийственную информацию:
— Да у них ничего нет! Даже этот дом с мебелью заложен и перезаложен…
Работники ножа и утюга несолоно хлебавши убрались, прихватив с собой практически все содержимое платяных шкафов, в том числе две Валентинины шубки и три замшевые куртки Казбека.
Наутро в дом снова явились незваные гости – полтора десятка неприятных суетливых лиц, на которых стояла несмываемая печать принудительной и продолжительной прописки в казенном доме. Представившись работниками филиала известного в те лихие времена банка – отличного банка, отличного от других, – они велели ей очистить помещение, взысканное в счет погашения выданных Казбеку миллионных кредитов вкупе с набежавшими процентами.
Так, через два года после свадьбы Валентина оказалась на пороге родного дома с полугодовалой дочкой на руках и двумя сумками личных вещей, которые ей позволено было забрать из разоренного семейного гнезда.
К ее удивлению, ожидаемый с мстительным нетерпением третий акт Марлезонского балета так и не состоялся ни в этот, ни в последующие дни – мужа и отца своей единственной дочери она так больше и не увидела. Лишь через пару месяцев весть о нем принесла бывшая нянька Светка, которая по привычке захаживала к ее дочке. Подбрасывая визжавшего от страха ребенка на толстых коленях наподобие едущей по колдобинам телеги, она скороговоркой тараторила:
— По кочкам, по кочкам,
По маленьким листочкам…
Бросив на Валентину быстрый взгляд, Светка неожиданно сказала:
— Как мог этот Незрелович променять тебя на старую, облезлую лошадь с вставными зубами?
Она подбросила девочку к потолку и, ловко поймав ее, тут же выпустила из рук:
— В ямку бух!
Раздавили сорок мух!
При этих словах малышка с визгом провалилась в импровизированную пропасть между разведенными ногами Светки и, подхваченная ею почти у самого пола, зашлась от истерического смеха.
— О чем ты? – нахмурилась Валентина. – Говорили, что он сбежал от кредиторов чуть ли не на Колыму…
— Значит, недалеко сбежал, его видели в райцентре под ручку с Инессой… не помню отчество…
— С какой еще Инессой?!
— Арманд! – засмеялась Светка. – Да ты знаешь ее! Старая дева, старше нас лет на двадцать… Она еще ужасный парик носила…
И Валентина вспомнила: Инесса как-то замещала приболевшую учительницу литературы Раису Аскеровну, худенькую, тихую женщину. Соседка Роза, чаевничая у Валентининой бабушки, клялась, что несчастная училка отсиживается дома, дабы не освещать и без того тернистый путь русской литературы фонарем под глазом, поставленным приревновавшим мужем. Уничтожив здоровенный пирог с сыром, который смог бы занять достойное место на столе знаменитого раблезианского чревоугодника, она вытерла губы и, прикрывая рукой расползающийся по всему лицу беззубый рот, захихикала:
— Да кто ж на нее позарится-то? Смотреть не на что! Смех и грех!
Инесса запомнилась только тем, что она имела привычку весьма неэстетично почесывать голову сквозь парик и на уроке, посвященном самой известной пьесе неутомимого борца с озверелыми мещанами, ляпнула:
— Сегодня мы приступаем к изучению комедии «Вишневый Зад»…
Вскоре Казбек прислал адвоката с документами о разводе, которые Валентина тут же подмахнула не глядя.
— Развод так развод! – без тени огорчения сказала тогда мама, не чаявшая, как ни странно, развести дочку, которую она сама практически силком вытолкала замуж.
И след существования первого мужа исчез, как будто звук пустой, – он уехал со своей престарелой новобрачной в неизвестном направлении и канул в небытие.
Снова настали суровые годы. Наш паровоз после смены колес и машиниста опять летел вперед на всех парах, но уже к другому пункту назначения – остановка в Коммуне не планировалась – отныне и во веки веков круто сменивших курс верховодов будет волновать только курс федерального резервного билета чужой страны с надменным ликом ее первого президента на лицевой стороне …
 Валентина сунулась было в родную школу, но в качестве иностранного языка там уже властвовал язык бывшей владычицы морей, и, за неимением другой ставки, она смогла устроиться лишь помощницей уборщицы тети Дуси по прозвищу Дуст, разменявшей восьмой десяток, но еще не растерявшей боевой пыл и силу луженой глотки.
Валентина сунулась было в родную школу, но в качестве иностранного языка там уже властвовал язык бывшей владычицы морей, и, за неимением другой ставки, она смогла устроиться лишь помощницей уборщицы тети Дуси по прозвищу Дуст, разменявшей восьмой десяток, но еще не растерявшей боевой пыл и силу луженой глотки.
Денежные знаки, конечно, бродили по стране, но к Валентине забредали только в виде жалких грошей – ее заработка – и не менее жалкой маминой пенсии, выдаваемых с продолжительными задержками. Бывали дни, когда они с матерью и дочкой обходились одной тарелкой кашки на троих – детским питанием с некоторыми перебоями их снабжала молочная кухня в райцентре.
Как-то, собираясь к подруге, отмечавшей юбилей, мама без особой надежды рылась в шкафах, разыскивая что-нибудь подходящее для подарка.
— Зачем праздновать пятьдесят пять лет, мама? Мазохизм какой-то! – ворчала Валентина, помогая ей в поисках.
— Если б ты знала, дочка, как хочется жить и в пятьдесят, и в шестьдесят и даже, подозреваю, в восемьдесят лет! – вздохнула мать. – Ох, слава богу! Нашла коробку конфет!
Обрадованная, она положила на покрытый изрезанной клеенкой стол плоскую продолговатую коробочку, перехваченную золотистым шнурком.
— Ну-ка, ну-ка, – у Валентины в груди что-то екнуло, и, открыв дрожащими пальцами знакомую коробку, она невольно вскрикнула: на красной бархатной подкладке сияло, переливаясь всеми цветами радуги, дивное бриллиантовое ожерелье, подаренное Казбеком в знак примирения после применения им огнестрельного оружия вне полевых условий.
— Не может быть! – схватилась за сердце мама. – Я решила, что это конфеты, убрала с глаз и забыла!
— А я думала, что Казбек забрал с собой коробку в тот вечер и запер в сейфе… Ну что ж, будем считать эту безделушку моральной компенсацией за два потерянных года моей жизни…
Бриллиантовый дым наполнил все вокруг, по покрытым плесенью углам бедной комнатки вспыхнул и задрожал чудный изумрудный свет, разноцветными искрами отражаясь в зеркале бабушкиного трельяжа. Драгоценный мираж, затмевая разум, поплыл у Валентины перед глазами. Захмелев от радости, как бывший предводитель дворянства и будущий отец русской демократии, грезившей о разнузданной старости за счет тещиных драгоценностей, сокрытых от вездесущих лап государственной казны, Валентина спрятала коробку в дальний угол шкафа и бросилась в объятья матери:
— Теперь заживем…
25.
Моральная компенсация, с немалыми предосторожностями привезенная в столицу, наконец оказалась в крошечной мастерской ювелира. Маленький, высохший, как египетская мумия, старичок, сам напоминавший какой-нибудь забытый богом раритет, с которого так и хотелось смахнуть пыль, при помощи лупы внимательно изучал бриллианты не более минуты, затем положил свой инструмент в нагрудный карман жилета и бросил ожерелье на стол:
— Могу вам дать сотню баксов…
— Как?! Только сотню?! – Валентина не поверила своим ушам.
— Работа довольно искусная, но бриллианты фальшивые, это подделка, кварц.
Старичок запустил костлявую руку в выдвижной ящик и, достав оттуда пинцет, выковырял камушек из ожерелья. Один легкий удар стального молоточка – и на покрытой древними трещинами полировке стола вместо драгоценного камня осталась пыль, увы, не бриллиантовая.
Так, земную жизнь пройдя практически до половины, Валентина оказалась на перепутье, как оплошавший богатырь, забредший за тридевять земель в поисках утраченного, но, в отличие от былинного героя, придорожный камень не обещал ей никаких перспектив ни в том, ни в другом, ни в третьем направлении…
Вечерело. В туманной мгле плавал и плавился бессмысленный свет фонарей. Неоновыми огнями зажглись витрины бесконечного ряда аптек – судя по количеству организаций, занимающихся производством, фасовкой и продажей как привычных, так и гомеопатических лекарственных средств, можно было подумать, что жители этого города рождаются настолько болезными, что с первой минуты жизни вскармливаются лекарствами вместо материнского молока. Ядовитая зелень вывесок, многократно отраженная в зеркалах витрин, настойчиво напоминала о забрезжившей надежде на лучшее, рухнувшей в одночасье.
Бредущую по неприбранным, неуютным улицам Валентину поглотила безликая толпа. Бойко работая локтями, сквозь плотную людскую массу пробивались барракуды – наглые, самоуверенные, жестокие охотники, готовые идти по трупам. Они со временем добились всяческих преференций в виде заводов, газет, пароходов, то бишь яхт, вкупе с депутатскими креслами и прочими не менее хлебными местами.
Неуверенно оглядываясь по сторонам, короткими перебежками, опасаясь неминуемого подвоха, передвигались пугливые лещи – загнанные, потерянные, плывущие по течению вверх брюхом. Эти вскоре пополнят никем не учтенные легионы павших от невидимой, но тяжелой руки рыночных шулеров – шоковых терапевтов.
Такой незамысловатый, но точный ихтиологический принцип классификации народонаселения, помнится, предложил очевидец тех событий, потомок знаменитой актерской династии и одаренный писатель, еще юным отроком возжелавший обрести вечный покой непременно за плинтусом.
Ну а Валентине в этой человеческой комедии была уготована роль не просто леща, а жалкого пескарика…
Итак, ожерелье, прощальный привет от Незреловича, оказалось поддельным – с трудом отходя от бриллиантового похмелья, она, кажется, даже плакала от безысходности, когда наткнулась на внушительных размеров клетчатую сумку – символ лихих девяностых, незаменимый челночный атрибут. Валентина обратила взоры, замутненные слезами, как воды священного Ганга, на согнувшуюся в три погибели женщину в кожаном плаще, влачившую по мокрому асфальту два здоровенных баула.
— Чего ревешь? – она остановилась и, удобнее перехватив широкие ручки сумок, посмотрела на Валентину.
Этот островок участия, неожиданный в обтекавшем ее океане равнодушия – в городе, не верящем слезам, – заставил Валентину разрыдаться. Женщина деловито подтолкнула ее к припаркованной у обочины потрепанной серой «Волге» и, рывком подняв тяжеленные сумки одну за другой, забросила их в багажник. Усадив Валентину в покрытое пахучей овчиной пассажирское кресло, она завела мотор и, по-мужицки раздвинув обтянутые джинсами мощные чресла, уверенно переключила рычаг коробки передач, украшенный кусочком оргстекла с застывшей внутри розочкой. Машина покорно заурчала, как ручной медведь на цепи, и, благодарно мигнув уступившему дорогу собрату, нырнула в бурный автомобильный поток.
Через полчаса Валентина пила чай на просторной кухне мамы Риммы, как ее звали многочисленные друзья и знакомые, и, не сдерживая эмоций, рассказывала простую повесть о своей неудавшейся негоции. После скрупулезного изучения ожерелья мама Римма уверенно подтвердила истинность предыдущей геммологической экспертизы и, используя преимущественно непечатную лексику, выразила свое отношение к козням противоположного пола вкупе с поддельными доказательствами их поддельных чувств.
Так Валентина оказалась в рядах покрывшей себя неувядающей славой особой касты людей – энтузиастов, на своих хрупких плечах удержавших от окончательного падения экономику родного государства, озабоченного в то время не благосостоянием народа, а узаконенным разграблением достояния, нажитого непосильным трудом многих поколений.
Мама Римма, совсем недавно преподававшая математику в провинциальной школе, после первых успехов не избежав некоего головокружения, расширяла свой бизнес и ради увеличения продаж набирала себе компанию товарищей, неколебимых и непродажных, дабы совершать с ними небезопасные вояжи за рубеж. Она обеспечила нового купца – бойца невиданного доселе фронта – стартовым капиталом, загнав фальшивое ожерелье за пятьсот условных единиц, и Валентина, оставив дочку на попечение бабушки, бросилась в опасный водоворот непрерывного товарооборота.
Первая поездка Валентины состоялась в соседнюю восточноевропейскую страну, жители которой демонстрировали безмерное высокомерие по отношению к своим северным братьям, хотя некогда входили в состав обширной империи и в момент ее очередного обрушения были непредусмотрительно отпущены на все четыре стороны.
Валентина топталась в грязи на огромном, совершенно необустроенном рынке, возле разложенных прямо на земле, на картонке, неказистых советских ботинок из черного кожзаменителя, и рассеянно прислушивалась к громкоговорителям, настойчиво призывавшим граждан:
— Увага! Панове-обыватели, увага, не покупайте водку у россиян!
Торговавшая рядом товарка, бывшая доярка, едва ли знавшая разницу между краковяком и коровяком, в недоумении пожимала плечами, встречаясь с уничижительными взглядами покупателей – сплошь потомков панов:
— Чего они такие злющие?
Какая-то старушка в шляпке с вуалью и в манто, сшитом, очевидно, задолго до исторического материализма, придирчиво щупала ручками в потрескавшихся замшевых перчатках, знавших лучшие времена, непритязательный ботинок родом из ненавистного совка, бормоча надтреснутым голоском:
— Матка боска! Як дорого! Клятые москали!
Когда Валентина, на удивление быстро распродав ботинки, бежала за новой партией товара к своей захудалой гостинице, подсчитывая в уме довольно приличный навар, из переулка выскочили головорезы с воинственно размалеванными физиономиями и выкрашенными в бело-красные цвета ирокезами. Добры молодцы как-то не по-доброму подступили к ней и, грубо столкнув в уличную грязь, осыпая ругательствами, сорвали с пояса кошелек со всей бывшей в наличии наличностью. Один из нападавших, голенастый прыщавый паренек, бешено тараща голубые глаза, прыгал вокруг нее, совершая немыслимые для человекоподобного существа скачки, и дурным голосом вопил:
— Курва! Курва!
Вдруг дверь одного из крытых красной черепицей домов открылась, и на пороге показалась давеча обругавшая ее на рынке старушка, одетая уже по-домашнему в пестрый байковый халатик с выцветшими фиолетовыми цветочками и стеганую фуфайку.
Трусливые подростки дали деру, сдернув напоследок с шеи Валентины подаренную когда-то бабушкой золотую цепочку.
Хозяйка привела ее в свой кукольный домик, где она кое-как отмылась от грязи. Разглядывая аккуратно заштопанные тюлевые занавесочки, горшки с геранью, кровать с горкой подушек, на которых, прижав к голове короткие, будто обрезанные ушки, вальяжно возлежал рыжий кот необъятных размеров, чуть заметно похлопывая кончиком хвоста по пестрому покрывалу, Валентина прихлебывала удивительно вкусный кофе из тоненькой фарфоровой чашки со знакомым логотипом известной чешской фирмы. Старушка сидела напротив, подперев сухонькой ручкой морщинистую щеку, и качала головой, закатывая бесцветные глаза:
— Матка боска! Бедные, бедные русские жинки, як же вам тяжко…
Затем интересы челноков переместились в сторону восточного соседа, испокон веков, словно спящий дракон, терпеливо ожидавшего своего часа. Туда летали на дребезжавших от старости самолетах с предварительно убранными сиденьями – до отказа забив салон сумками, коробками и тюками, негоцианты эпохи перемен взмывали в сине-клетчатые небеса, удобно устроившись на сине-клетчатых баулах.
Пока за иллюминаторами мелькали круто замешанные в синеве неба облака, они азартно постукивали по кнопкам калькуляторов наподобие мультяшных состоятельных кротов, которые с помощью допотопных деревянных счетов совершенствовали навыки счета, пока невеста одного из них – достойная большего маленькая девочка – не слишком расторопно прощалась с ясным солнышком.
Подсчитав прибыль, – были времена, когда суммарный доход доходил до головокружительных четырехсот процентов, – они забывались тревожным сном под разухабистые байки мамы Риммы и лязганье налетавших все мыслимые и немыслимые сроки железных птиц, то и дело попадавших в воздушные ямы и турбулентные потоки.
Потом неутомимые челноки обратили свои взоры на южного соседа, вольготно раскинувшегося между двух морей…
За время этих поездок за кордон Валентина перетаскала на себе тонны мануфактуры и, хотя не нажила миллионов, все-таки приобрела скромную двушку в спальном районе.
Деньги текли если и не бурным потоком, то неиссякающим ручейком – она не умела лихо подсовывать непуганым лопоухим покупателям вместо роскошной шубки из норки обычного зайца или спорить за каждую копейку с несчастными стариками, чьи жалкие жизни ничтоже сумняшеся молодые и не очень реформаторы положили на алтарь вожделенного золотого тельца…
На Старом рынке Валентина, примостившись на складной табурет, пыталась сосредоточиться на сканворде из захватанного журнала. Торговля не шла, со сканвордом дела тоже не ладились. Она уныло грызла синий колпачок оранжевой китайской ручки, с тоской вспоминая времена, когда она была весьма востра и быстро могла одолеть любую задачку.
Навязчивая мелодия, застрявшая в зубах, словно забытая во рту жвачка, беспрестанно вертелась в голове – Гога, торговец контрафактной аудио- и видеопродукцией, стоял прямо напротив нее. Пританцовывая и хлопая кожаными перчатками по озябшим плечам, он тайком отхлебывал чачу из плоской бутылочки и с маниакальностью подавляющего преступную страсть садиста слушал хриплый голос шальной эстрадной императрицы-самозванки, требовавшей непременных танцев у неведомого мальчика из младшего офицерского состава.
Было хмуро и слякотно – стоял ноябрь уж у двора – не самая любимая пора Валентины. Промозглая сырость, казалось, добралась до мозга костей, и, хмурясь, она накинула поверх короткой пуховой куртки доставшееся ей от прежнего хозяина точки старое одеяло, которое чудом не убежало от него, имея такой потасканный вид, будто с тяжелыми потерями выбиралось из-под интенсивного обстрела.
На площадке перед торговыми рядами, по-хозяйски взвизгнув тормозами, остановилась вишневая девятка – в духе высокого коллективизма весь рынок подобрался и напружинился, словно единый живой организм. Двое щуплых парней в надвинутых на бойкие черные глаза кепках, в неизменных спортивках под косухами, которые гладкоствольно оттопыривались с правой стороны, начали деловитое общение с продавцами, явно не доставлявшее последним особого удовольствия.
Валентина за весь день не заработала ни копейки, однако дискуссии по поводу пересмотра давно оговоренного тарифа темпераментные сборщики дани, ее земляки, воспринимали как личное оскорбление, и она, не поднимая шума, безропотно положила в протянутую волосатую руку положенную сумму.
Валентина уже собиралась свернуть торговлю, когда перед ней остановилась миловидная молодая женщина в броской боевой раскраске, с высоко зачесанными, блестящими от лака волосами, будто сделанными из тонкой ламинированной проволоки. За руку она держала мусолившую громадный чупа-чупс девочку в красной курточке с капюшоном и шапочке с намокшим помпоном, похожим на недовольного чем-то ежа, выставившего все свои колючки.
— Вон ту, бабушка, – женщина показала на синий пуховик с перламутровым отливом.
Внутренне вздрогнув от не самого лестного обращения, Валентина выложила на прилавок облюбованную покупательницей куртку, кутаясь в свое затрапезное одеяло. Пока женщина мяла синтепон, придирчиво рассматривала со всех сторон и в самом деле не очень качественное изделие китайского производства, девочка околачивалась у прилавка и, забыв про свой чупа-чупс, широко распахнутыми голубыми глазами разглядывала. Валентину. Потом, положив обмусоленный леденец прямо на расстеленную на прилавке куртку, она испуганно дернула за рукав мать и сказала громким шепотом:
— Мама, это Баба Ежка, да?
— Замолчи! – лицо женщины покрылось пятнами, такими же лиловыми, как тени на ее веках, и, шипя, как потревоженная в неурочный час кобра, она за руку поволокла прочь дочку, едва успевшую схватить свой леденец.
«Устами ребенка, как говорится…» – усмехаясь, Валентина оттерла куртку от липких подтеков патоки, посматривая по сторонам в поисках неудачливой претендентки на звание заслуженной Костяной ноги.
Взгляд наткнулся на предназначенное для примерок зеркало в потертом деревянном окладе. Тусклая поверхность с червоточинами амальгамы отразила завернутую в тряпье тетку в теплой старушечьей шапке с наушниками, кутавшую в синий вязаный шарф сизый от холода нос.
« Вот оно что! – запоздало догадалась она. – Так это я Баба Яга!»
26.
Дома, перехватив кое-какой еды и приняв душ, Валентина с опаской села перед зеркалом и по-новому взглянула на себя. «Душераздирающее зрелище!» –вспомнила она реакцию отторжения на свое отражение в тихих водах пруда меланхоличного приятеля самого симпатичного, несмотря на опилки в голове, мишки.
Мешки под глазами, желтоватые белки, мелкие морщинки на несвежей пористой коже… Вот она какая теперь – мужем стрелянная, грабителями пуганная, панами битая! И хотя ее зеркало ранее не было замечено в наличии оппозиционных настроений, оно доходчиво донесло до Валентины не особо приятную истину: есть на этом свете особы милее и белее ее…
Чувствуя себя бойцом-юниором, свалившимся в нокауте после мощного удара противника и переосмыслившим свои приоритеты, Валентина наутро позвонила маме Римме и, не слушая ее уговоров, передала ей весь свой товар, нашла работу в частном университете, после чего перевезла дочку к себе…
С тех пор прошло почти четверть века. Сказка о всенародном благоденствии, обещанном в середине восьмидесятых годов прошлого века бывшим комбайнером – будущим могильщиком социализма – заняла достойное место на кладбище несбывшихся надежд. Государство, все чаще именуемое заокеанскими завистниками бензоколонкой с ракетами, до сих пор занято благосостоянием исключительно одного процента своих граждан, которые все высосанное из ресурсов до последнего цента стыдливо прячут за бугром с молчаливого согласия власти.
А на всем протяжении необъятной империи, над которой никогда не всходит солнце, привычный ко всему народ безмолвствует, как обычно, в терпеливом ожидании доброго, справедливого царя – он обязательно придет и искоренит порядком надоевший беспорядок…
Валентина поставила чайник и, нацепив очки от нежданно нагрянувшей дальнозоркости, принялась за вязание. Ничто так не успокаивает, как мелькание спиц в ловких пальцах, не говоря уже о бесспорной пользе мелкой моторики, активизирующей многие отделы мозга, уже балансирующего на грани маразма. Ведь Валентине уже пятьдесят пусть не с рублями, но уже с копейками, по меткому выражению рябиново-рубиновой кудесницы слова.
На лестничной площадке послышался какой-то шум, и через мгновение в дверь неистово забарабанили. Валентина с чулком в руке едва успела снять цепочку и отшатнуться – перекошенная от ужаса, к ней ворвалась соседка Инна Ильинична. Резво, как графиня, бежавшая к пруду изменившимся лицом, промчалась мимо хозяйки и, прыгнув в ванную, заперлась изнутри. Затем в квартиру, благо дверь была открыта настежь, шагнул, полыхнув нездоровой багровостью лица, Василий Иванович с окровавленным топором в руке и, хрипло дыша, подступил к Валентине, блуждая безумными глазами, словно небезызвестный идейный раскольник, только что расколовший старушечий череп и весьма некстати обнаруживший ненужную свидетельницу.
Чрезвычайно распространенное утверждение о том, что перед смертью вся жизнь, словно единый миг, пролетает перед глазами, оказалось не более чем заблуждением – в горячечном мозгу Валентины мелькнула лишь одна куцая лилипутская мысль: «Чулок недовязала…»
— Где она?! – страшно возопил Василий Иванович, потрясая топором.
На кухне оглушительно засвистел чайник.
— Может, чайку? – уронив чулок, пискнула Валентина.
В глазах соседа мелькнуло нечто, не чуждое человеческому:
— С вареньем из фейхоа?
— Ну, – выдохнула Валентина, несказанно удивленная тем, что в такой эмоциональный момент он сумел правильно выговорить столь неудобоваримое слово, – Фей… Фейху… не обещаю, но…
Минут через десять, выпив чаю с привычным малиновым вареньем за неимением экзотического – из фейхоа, сосед рыдал на кухне, положив седовласую голову на стол рядом с орудием несостоявшегося убийства:
— Я же ни разу в жизни ее … даже пальцем… а она… она…
Внезапно он вскочил, как буйнопомешанный, отбросив ногой стул, схватил свой окровавленный кухонный инвентарь и, рыча, как янычар, жаждущий крови неверных, прыгнул к окну – Валентина даже не пыталась ему помешать. Рывком распахнув пластиковую створку и сбросив на пол прозрачный горшочек с Королевским фаленопсисом – редкой белой орхидеей, впервые за три года стыдливо распустившей свои нежные, хрупкие лепестки, он прямо в стоптанных тапках вскарабкался на подоконник.
Орхидею уже было не спасти – и Валентина, бросившись к соседу, видимо решившему свести счеты со своей загубленной жизнью, схватила его за мелко дрожавшую дряблую лодыжку. Однако бывший полковник не вынашивал на этот раз никаких кровопролитных планов: Василий Иванович всмотрелся в пустоту с высоты второго этажа, дабы случайно не зашибить кого-нибудь, и, размахнувшись, метко бросил свое женобитное орудие в середину грязного, ноздреватого сугроба, еще не убранного дворником. Спрыгнув прямо на останки несчастного цветка, он с хрустом раздавил горшочек и, даже не заметив учиненного погрома, потащился из кухни.
— Иннусик … — несостоявшийся Джек-потрошитель, жалкий, понурый, остановился под дверью ванной, всем своим видом напоминая старого робкого бурого зайца, как некий унесенный северным ветром южанин, ввиду своей бесхребетности и малодушия женившийся не на любимой девице, а на ее циничной старшей сестрице.
— Иди домой, дурак! – раздалось из-за запертой двери.
Опустив уже не буйную головушку, Василий Иванович, слишком мягкотелый для такого серьезного дела – быть мужиком – сгорбившись, побрел домой.
Валентина постучалась в ванную:
— Выходите, Василий Иванович закопал топор войны…
Когда соседка покинула свою крепость, Валентина не смогла скрыть изумления:
— Но как?! Как вам удалось взбеленить до такой степени этого Василия Тишайшего? Каким образом вы его настолько разозлили?
— На пустом месте, Валечка! На пустом месте! – всхлипнула соседка, нервно поправляя свои вечные папильотки. – Детей не было дома, слава богу… Он разделывал мясо, я смотрела телевизор… там фильм шел… с этой, как ее? Ну, которая строптивого Челентано укротила…
— Арнелла Мути что ли?
— Ну, она мужу как раз призналась, что изменила ему с комиссаром Каттани…
— Кажется, это «Народный роман», они в этом фильме вместе снимались, – невольно засмеялась Валентина, – ну и что?
— Там муж что-то задел и упал, а когда жена удивилась, мол, бельевая веревка высоко, как его угораздило, ответил: «Наверное, рогами зацепился!» Ну, я и засмеялась… – соседка заплакала, шмыгая покрасневшим носом. – А Подметун тихо так спрашивает: «Иннусик, что тебя так рассмешило?» А я еще больше смеюсь – смешно же… А остальное вы видели…
Проводив соседку, Валентина прошла на кухню. Посреди разбросанного повсюду плодородного гумуса, раздавленная отнюдь не любовью, жизнью иль колесами, а соседскими тапками сорок четвертого размера, в кружевном облаке помятых белых лепестков умирала, скорбно заломив ветви, ее любимая орхидея, словно неверная невеста, застреленная прямо перед алтарем ревнивым мужем-корсиканцем. Этот народ, кстати, весьма яростен и в горе и в радости, как и ее земляки-кавказцы, – может, дело в общих предках-неандертальцах….
Валентина похоронила погибшую орхидею в недрах мусорного ведра и, еле отмыв пол с применением разнообразных моющих средств, присела на стул и тяжело вздохнула. Тонометр подтвердил ее опасения – о вязании на сегодня можно забыть – и, приняв таблетку релаксирующего феназепама, она вытянулась на своем лазорево-бирюзовом диване.
Конфликт в соседском семействе никак не удавалось выкинуть из головы: не идеальная, конечно, ячейка общества, когда муж – подкаблучник со стажем, а жена далеко не клад, но жили же они до сих пор, довольные привычным укладом, чтили Семейный кодекс.
Что стало причиной столь бурного помутнения рассудка, ведь Василий Иванович не был ранее замечен в наличии неандертальских генов… Ответ очевиден: испытанный веками институт брака и впрямь дышит на ладан – неладно что-то в датском королевстве… Хорошо, что ей не надо на старости лет терпеть рядом какого-нибудь свихнувшегося маразматика, Саню к примеру!
Скоро, скоро исполнится ее давняя мечта: ровно через год, восемь месяцев и двенадцать дней она уйдет на заслуженный отдых (за пенсию отсроченную нашу спасибо, родная страна!), загонит по спекулятивной цене квартиру и махнет домой – сады, как говорится, опрыскивать да внуков нянчить…
И начнется счастливейшая пора – время дожития – говорящий термин, придуманный чиновниками, рассчитывающими на то, чтобы отжившее свое старичье не путалось у них под ногами и покорно брело ко гробу.
Долгая северная зима шла на убыль, но мороз еще цепко держался за обледенелые тротуары и крыши, унизанные нахально заглядывающими в окна верхних этажей сосулями. По всему видать, в кровопролитной войне с этими ледяными сталактитами потерпели сокрушительное поражение лазерные войска, спешно снаряженные спикером верхней палаты не очень представительного законодательного органа, куда ссылают отслуживших служивых разней мастей, дабы не отлучать, от государевых милостей, – в отличие от простых смертных.
Двигаясь привычным маршрутом, Валентина обошла стоявший дыбом раскуроченный отрезок тротуара, где вовсю кипела работа и сонно, словно парализованные анабиозом снулые рыбы, ковырялись в земле трое рабочих. Дорожные службы не случайно проявляют вполне объяснимое рвение к выполнению земляных работ преимущественно в зимнее время – общеизвестно, что горячий асфальт, уложенный на мерзлую землю, будет жить и служить людям если и не вечно, то до весны наверняка.
Валентина осторожно переставляла ноги в надетых поверх сапог зеленых носках, тщательно выстиранных и выглаженных с вечера. Прямо на нее стремительным шагом стража Галактики летел невысокий кряжистый мужчина в видавшей виды залоснившейся от времени камуфляжной куртке, поверх которой развевались на ветру концы длиннейшего красного шарфа.
Проходя мимо Валентины, он вдруг взмахнул короткопалыми руками, выдернутыми из карманов, и с плотоядным хрустом рухнул на обледенелые плиты тротуара. Трое дорожных рабочих безучастно повернули к нему головы и, явно удовлетворенные тем, что их собственные черепа надежно защищены пластиковыми шлемами, снова согнули оранжевые спины.
«Дежавю», – подумала Валентина и, глядя на обрубок, распростертый перед ней, наподобие морского беспозвоночного, сказала:
— Агафон…
— Почему Агафон? – удивленно воззрился на нее мужчина и, тяжело поднявшись на ослабевшие ноги, сказал:
— Я Саня, Александр…
Валентина вздрогнула, сердце затрепыхалось, остановилось, замерло на мгновение, затем отдышалось и, строго следуя предписаниям скучающей уже четверть века и пропахшей нафталином группы, опять пошло.
— Но ведь в прошлый раз…Вы говорили… Агафон… – дрожащим от волнения голосом еле слышно пролепетала Валентина.
— Амнезия! Ударился о бордюр, потерял память, но теперь …
— Саня…Санечка! – задохнулась от счастья Валентина.
Зеленые скифские глаза сузились и заволоклись непрошеными слезами:
— Валентина? Ты?!
И тут Валентина открывает глаза. О горечь пробуждения!
21.01. 21